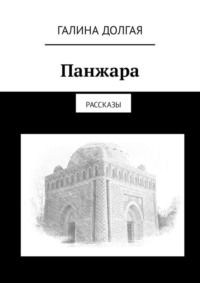Полная версия
Боги Срединного мира. Роман
– А с чего вдруг решили копать?
– Старики сказали, надо откопать, – Арман был немногословен.
– А-а! – Хакан Ногербекович понимающе поджал губы.
Работа вокруг камня закипела. Дядя Боря притащил лестницу – попросту доску с набитыми на нее поперечными дощечками, Вадим Петрович взялся за фотоаппарат, Жора и Слава – за щеточки, а Сима пошла к машине за бумагой и карандашами, чтобы зарисовать символы. Арман попрощался со всеми до вечера и пошел вместе с ней.
Его Черногривый пасся рядом с лагерем археологов.
– Красивый конь, – Сима с восхищением смотрела на коня, – можно погладить?
– Можно.
Арман подвел вороного к девушке. Длинная челка легла на глаза Черногривого, чуткие ноздри коня трепетали, втягивая воздух. Сима протянула руку, но Черногривый фыркнул, испугав ее.
– Тихо, тихо, – Арман обхватил морду коня руками, – от тебя пахнет духами, ему не понравилось, извини.
– Я не душилась… но не понравилось и ладно, мне работать пора, – Сима снова почувствовала раздражение.
– Сима, подожди, я вечером приведу другого коня, спокойного, можем вместе прогуляться.
Сердечко Симы зачастило. После вчерашней встречи она только и думала, что об этом парне. Это ее злило. А сейчас вот как-то радостно стало…
– Ладно, тогда до вечера, – смущаясь, ответила она.
Лицо Армана засветилось. От его улыбки горячая волна обожгла лицо, Сима затаила дыхание, чтобы не выдать волнение. А Арман достал из расшитого цветными нитями мешка, что лежал поперек коня, Симины кроссовки.
– Вот, поставь на солнце, еще мокрые.
– Ой, спасибо! Как ты достал?
– Палкой, – Арман вскочил на коня. – До свидания, Сима!
– До свидания…
Дядя Боря, наблюдая за ними с другого берега, толкнул в бок Жору.
– Смотри, этот казах нашу Симу обхаживает. Уведет девку, останешься с носом.
Жора посмотрел в след удаляющемуся всаднику и отмахнулся.
– Не уведет – абориген.
– Абориген, говоришь, ну, ну, а взгляд его видел? Симку от него разве что в жар не бросает!
Жора пожал плечами, но побежал к берегу на помощь девушке, которая переходила реку вброд, одной рукой прижимая к груди папку с бумагой, в другой держа шлепки.
Дядя Боря не ошибся. Каждый вечер Сима уезжала с Арманом, все увереннее сидя на коне, и возвращалась, искрясь от счастья. Они вместе провожали солнце, любуясь закатами, вместе, бок о бок, скакали по степи, настораживая ее обитателей звонкими голосами и смехом. Днем Арман уходил в степь с табуном, а Сима работала у камня.
Археологам помогали два парня из местных, они прорыли вокруг всего камня ров, углубившись в землю настолько, чтобы можно было рассмотреть символы. Хакан Ногербекович все же предположил, что это именно символы, а не буквы, и каждый знак может служить «печатью», не позволяющей какому-то духу покинуть свое убежище. Сима слушала опытного археолога, стараясь не только запомнить, но и записать в свой дневник его рассказы.
– Смотрите, Симочка, вот эти треугольники, скорее всего, обозначают четыре стихии. Вот огонь, вода, земля, а это – воздух. Причем, обратите внимание, что вода и земля имеют «женское» отображение – треугольники острой вершиной направлены вниз, а огонь и воздух – «мужское», вершина смотрит вверх. Вот знак созидания и порождающего начала. Видите? Два треугольника наложены друг на друга.
– На звезду похоже.
– А звезды здесь тоже есть! – Хакан Ногербекович перешел подальше и, как ребенок, рассматривающий букашку на цветке, улегся на землю, показывая Симе на едва обозначенные звезды на поверхности камня.
– А что, у здешних кочевников тоже есть духи звезд?
Хакан Ногербекович сел. Сима пристроилась рядом с ним.
– Понимаете, Сима, древние кочевники считали, что духи есть во всем – в камне, в земле, а небо, и все, что с ним связано, вообще обожествляли. Вы слышали о Тенгри, о духах земли, воды? Так вот, звезда была символом бога подземного мира Эрлига. Да и люди, кочевники, считали, что на небе у каждого есть своя звезда. Пока она светит, человек жив, а когда упала, то… сами понимаете. Потому на падающие звезды смотрели с грустью, не так как мы сейчас.
– У древних тибетцев были злые духи звезд. Даже не духи, а демоны. Считалось, что они причиняют болезни.
– Увлекаетесь древней религией «бон»? – глаза археолога сощурились в улыбке, и морщинки веером побежали к вискам.
– Не то, чтобы увлекаюсь, но интересно. Я заметила, что между представлениями о мире у наших кочевников и у тибетцев много общего.
– Что ж вы хотите?! Тибетцы – тоже кочевники! Разница лишь в том, что природа у них более суровая, потому и представление о мире своеобразное, более яркое, да и пасут они не коней, а яков!
– Хакан Ногербекович, можно вас спросить? – Сима решила воспользоваться темой беседы и задать волнующий ее вопрос. – Вы верите в духов?
Археолог, к удивлению Симы, ожидающей, по крайней мере, улыбки, посерьезнел.
– Думаю, неспроста вы это спрашиваете. Потому отвечу так: в нашей работе мы частенько тревожим прах давно умерших: и воинов, и шаманов, и царей, и убийц. Ведь, по сути, копаемся в могилах. Вы знаете, что, когда вскрыли могилу Тимура, началась война? А старики предупреждали: не тревожьте прах Великого Воина! Вот и подумайте, верить в духов или нет! Да, что там, порой я и сам ночами слышу топот конницы…
– Правда?! И я…
Хакан Ногербекович похлопал Симу по руке.
– Это значит, что вы настоящий археолог! Скажу вам по секрету, Сима, все стоящие археологи и слышат, и видят… Так что не пугайтесь! Кстати, открою вам еще один секрет: бабушка вашего друга – шаманка. И, думается мне, внук перенимает ее мастерство. Так что будьте осторожны, не теряйте головы. Простите, что вмешиваюсь, но… но, вы девушка взрослая, самостоятельная, извините…
– Не за что извинять, Хакан Ногербекович, спасибо вам за заботу, вы правы – голову терять никогда не надо.
«Как легко об этом говорить, и как трудно сохранять стойкость духа по жизни, – подумала Сима. Не терять голову… мда, если бы люди умели контролировать чувства, скольких бед можно было бы избежать!»
– А вот этот знак затерт. То ли кто-то специально его сбил, то ли время постаралось… мда, ведь этим петроглифам порядка трех тысяч лет…
– Какой символ? – Сима наклонилась ниже, чтобы получше рассмотреть углубления на гранитной поверхности камня. Наиболее четко вырисовывались две наклонные линии, выбитые параллельно друг другу, крест ниже этих линий, а остальное больше походило на кляксу. – Да, Хакан Ногербекович, я уже пыталась собрать в символ эти палочки и крестик, но пока ни с каким известным нам знаком связать не могу, разве что крест. Он может отображать слияние всех стихий… А верхняя часть рисунка могла быть ромбом или двумя равносторонними треугольниками, соприкасающимися основаниями.
– Вряд ли. Один треугольник означает огонь, судя по направленности его вершин, второй – воду. Да и есть эти изображения отдельно, мы с вами только что их разбирали. А огонь и вода – не сочетаемые стихии в природе. Древние относились к символике очень серьезно. В эти значки вложен огромный смысл. Представляете, на священном камне, в месте, где разговаривают с духами, и нарисовать какую-нибудь белиберду, вроде современных надписей на заборах типа «Здесь был Вася»?! Нет, такого никто не посмел бы сделать. Значит, надо искать в этих знаках, скорее всего, сакральный смысл, и собирать изображения, дополняя отсутствующие части до такого, которое будет нести особое значение и не противоречить гармонии, здравому смыслу. Что ж, нам есть, над чем работать, Симона! – Он промокнул взмокший лоб платком. – А не пора ли нам пообедать?
Сима так увлеклась, так погрузилась в мир загадочных знаков, что совершенно забыла о себе и только сейчас почувствовала, что голодна.
– Пора! Идемте, дядя Боря сегодня обещался национальное казахское блюдо нам приготовить – бешбармак!
– А! Он мастер, вы не смотрите, что русский, он хорошо знает местные обычаи и кухню. Мы с ним уже столько лет колесим по степи вместе.
Сима вылезла из ямы, потянулась, с удовольствием прочувствовав свое тело, задержала взгляд на небе. Оно сияло первозданной чистотой. Недалеко кругами летала стая воронов.
– Смотрите, Хакан Ногербекович, вроде вороны…
Археолог стряхнул землю с колен, поднял свои инструменты и посмотрел на небо.
– Вороны. Падаль нашли, вот и кружат.
«Не к добру это, – подумала Сима, – тревожно как-то», – но отвлеклась на друзей, уже собравшихся за столом, на который дядя Боря поставил блюдо с дымящимися кусочками мяса, обложенными вареными квадратиками теста.
Глава 4. Завещание матери
Аязгул возвращался в яйлак после удачной охоты: крупная козочка, крепко привязанная к седлу, лежала на крупе коня.
Над головой раздалось карканье.
«Не к добру! – подумал Аязгул, провожая взглядом стаю воронов. – Что-то случилось в степи…»
Он пришпорил коня и, обогнув холм, выскочил к Желтой реке. Спящий Батыр на другом берегу встретил его безразличным взглядом. Аязгул спрыгнул с коня и, повел, взяв в поводу. Но Белолобый встал на дыбы, отфыркиваясь, и кося бешеным глазом. Охотник усмирил коня и пригляделся. Трава вытоптана, бурое пятно, похожее на кровь… Так и есть! И там, и здесь… Барана резали? А почему не у Батыр-камня? И не одного… Битва? Но кто? Кто с кем сражался и что случилось?..
Не находя ответов, Аязгул с тревожными мыслями поспешил в родное стойбище. Издали он услышал плач женщин. Зорким глазом приметил воинов, охранявших яйлак. Увидев всадника, те подняли луки, но узнав охотника, опустили их.
– Что случилось? – Аязгул спешился.
– Бурангул убил наших людей. И Таргитая.
– Как убил? За что? Ведь только вчера они породнились… А Тансылу? – холодок прокрался к самому сердцу.
– Она убила мужа. Бурангул отомстил за сына, – воин был краток.
Аязгул передал поводья Белолобого мальчишке, выбежавшему навстречу и, отвечая поклоном головы на скорбные взгляды соплеменников, пошел к центральной части стойбища, где рядком лежали на кошме восемь убитых и среди них Таргитай.
Женщины оплакивали своих мужей, сыновей, братьев, сидя рядом с ними. Аязгул сразу заметил Дойлу у изголовья Таргитая. Ее косы не были уложены на голове как всегда, а рассыпались по плечам. Дойла оделась как все кочевницы, которых объединила скорбь: высокий головной убор, тяжелые бронзовые нагрудники с бирюзой и сердоликами поверх просторного шерстяного платья. Время от времени Дойла отгоняла мух от лица мужа, а потом снова застывала над ним, как каменная, вглядываясь в каждую морщинку на его лице, словно стараясь запомнить.
Таргитая нарядили в самые лучшие доспехи: новую кольчугу, еще не испытавшую на себе ни удара топора, ни острия стрелы; любимый шлем вождя, который сиял золотом в лучах склонившегося к закату солнца; штаны из светлой кожи, заправленные в сапоги. А рука его крепко сжимала на груди обнаженный меч. Погибшие воины – и те, которых привезли люди Бурангула, и те, которые пали в битве у Батыр-камня, – как и при жизни, находились с двух сторон от своего вождя, готовые кинуться на врага в решительный момент со своим оружием: кто с мечом, кто с луком, кто с боевым топором.
Поклонившись павшим, Аязгул отошел к своему шалашу, где сидела мать.
– Сынок, родной, такая у нас беда… – еще не старая женщина с удивительными голубыми глазами, которые сын унаследовал от нее, вытерла слезы.
Аязгул сел рядом с ней. Взял в руки чашу с кумысом, поднесенную ему сестрой. Выпил. Помолчал. Потом спросил:
– А что Тансылу? Говорят, она убила Ульмаса…
– Говорят. Кудайберды слышал, как Бурангул сказал, что она его сына зарезала.
– Зарезала?.. – Аязгул не мог понять, как такое случилось, а потому не поверил. – Не может быть. Она – слабая девчонка. Ульмас – сильный воин. И зачем ей было резать своего мужа?..
– Не знаю, сын. Так люди говорят. Молва по всей степи разошлась. Шаман готовится слушать духов.
В ритуальном балахоне, обвешанный амулетами, с разукрашенным черными полосами лицом, шаман, сидя особняком, покачивался из стороны в сторону, постукивая в бубен. Изредка отрываясь от своего занятия, он прихлебывал напиток, который освобождал разум от восприятия реального мира, открывая путь к духам, волю которых он потом перескажет людям.
– Говорят, нарушен закон. Виновных надо покарать.
– Покарали уже… – брови охотника сомкнулись, глаза сузились. – А Дойла? – Аязгул взглянул на жену вождя.
– Дойла готовится уйти с мужем. Как велит древний закон.
Аязгул вскочил на ноги.
– Как уйти? Те законы уже давно никто не исполняет! А как же Тансылу? Как она оставит Тансылу?
Многие услышали охотника. Все знали, как он привязан к дочери вождя. Все помнили Тансылу веселой, красивой девочкой, любимой отцом и матерью, да и всеми, кто жил с ними рядом одной семьей.
– Успокойся сын. Ее право принять такое решение. А о Тансылу никто ничего не знает. Бурангул сказал, что убьет ее. Найдет и убьет.
«Значит, она сбежала, – обрадовался Аязгул. – Жива. Сюда не вернулась. Умница. Здесь ее бы забрали вожди с юга и отдали на расправу Бурангулу. Где она? Где?.. Надо искать! В горах! Там легче укрыться», – Аязгул сжал кулаки, вытянулся струной, словно уже скакал на своем Белолобом, выглядывая в степи Тансылу.
Тем временем Дойла оставила тело мужа и пошла в свою юрту. Несмотря на горе, она все еще следила за стойбищем, как хозяйка. И приезд охотника не остался незамеченным ею. К Аязгулу подошла девочка, дернула его за край рубахи.
– Чего тебе?
Девочка поманила охотника пальчиком, он наклонился к ее лицу.
– Тебя зовет госпожа, – шепнула она и убежала.
Аязгул оглянулся. Дойлы не было видно, а девочка остановилась у открытого входа в юрту, маня пальчиком. Аязгул понял и, пройдясь по яйлаку, не привлекая к себе особого внимания, обошел юрту, приподнял ее полог и скользнул внутрь.
Свет сочился в юрту сверху. Красные, желтые ленты, сплетенные из шерсти, свисали с потолка, соединенные меж собой одной длинной лентой так, что все вместе напоминало яркий шар с длинными кистями, похожими на конские хвосты. Войлочные стены юрты вождя тоже были украшены и лентами, и оружием, и талисманами. Дальний от входа край, где раньше спала Тансылу, был обособлен от остальной части, отделен от ложа ее родителей тонким слоем кошмы без подушек и одеял. Чуть в стороне от центра юрты, Аязгул увидел Дойлу и двух женщин, готовивших ее к переходу в другой мир. В дополнение к шейным украшениям, они надевали на руки жены вождя браслеты, кольца.
Отослав их, Дойла подозвала Аязгула. Он склонился перед ней, встав на колени.
– Аязгул, ты в нашем племени такой же чужой, как и я, – охотник хотел было возразить, но Дойла остановила его. – Да, я знаю, что мы все стали одной семьей, но я о другом. Обычаи степи тебе так же чужды, как и мне, как и я, ты следовал им, согласно закону, но не порыву души. Потому ты поймешь меня. Надо сделать все так, чтобы смыть с моей дочери вину. Я уйду, взяв на себя ее грех, и заставлю всех поклясться перед духами мертвых, что моя жизнь будет принята, как жертва, вместо жизни моей дочери. Ты же, не дожидаясь погребения, скачи прямо сейчас. Вот, возьми, – Дойла подтащила к себе два тяжелых кожаных мешка, связанных между собой, чтобы их можно было перекинуть через спину коня, – здесь еда, одежда, все необходимое для Тансылу и для тебя. Найди мою дочь, Аязгул! Скачите к нашим дальним стойбищам. Мою волю передадут, все узнают, что я благословила вас, и что, ты, став мужем Тансылу, будешь с ней вместе беспокоиться о наших людях, оберегать их, заботится. Без твоей поддержки ее могут не принять, мала она еще, а тебя уважают, тебе доверятся. Спаси мою дочь, Аязгул, – в последних словах Дойлы прозвучала мольба. В тех словах выразилась вся боль матери и ее надежда.
– Я найду Тансылу, госпожа. Пока я жив, волос не упадет с ее головы. Обещаю тебе!
Дойла прижала голову Аязгула к своей груди. Потом порывисто отодвинула, заглянув в его глаза.
– Да будет так! Скачи!
Аязгул встал.
– Нет, постой! – Дойла сняла с себя нитку крупных коралловых бус, которые она всегда носила, не снимая. – Вот, это защита от злых духов. Это сделано в моей стране. Там, где синее небо отдыхает в объятиях белых гор, там, где текут священные реки, а птицы уносят души умерших в царство вечности… Отдай Тансылу. Они защитят ее от демонов. – Дойла положила бусы в руку Аязгула, сжала ее своими руками, словно вместе с бусами, отдавала тепло своего сердца, которое вот-вот остынет в ее груди. – Теперь ступай, и хранит тебя Всеблагой!
Аязгул в последний раз взглянул в лицо госпожи, приложился губами к ее руке и, скользнув змеей, покинул юрту, так же тихо, как и вошел.
Он скакал во весь опор, подгоняя Белолобого, когда была выкопана погребальная яма, когда в нее уложили отдельно Таргитая, оставив рядом с ним место для жены, и отдельно семерых воинов, когда Дойла осушила чашу с напитком вечного сна и обратилась ко всем с последними словами. Никто не посмел возразить уходящей в вечность по своей воле, отдающей свою жизнь взамен за жизнь дочери. Смерть жены вождя приняли, как жертву, старейшины согласились признать ее дочь, как ее саму. Если кто и не согласился, то промолчал. Шаман, погрузившись в мир духов, услышал одобрение воли уходящей. И, когда реальный мир поплыл в ее глазах, когда она, закрыв их, переступила грань между видимым и невидимым, шаман закружился в ритуальном танце, и Дойла, воссоединившись с Таргитаем, вошла в царство Тенгри…
Аязгул скакал всю ночь, изредка останавливаясь, чтобы напоить коня и определить путь к тому месту в предгорьях Черных гор, где, как он думал, могла укрыться Тансылу. Белолобый был так стремителен, что еще до рассвета они вышли на тропу, ведущую к заветной пещере, которую Аязгул как-то показал Тансылу, когда они вместе охотились.
Тропа пошла вверх над скалистым берегом ручья, шумно бегущего с горы. Чем выше поднимался охотник, тем круче становились берега. Солнце не торопилось осветить этот дикий край, но тьма понемногу расползалась, прячась за валунами, разбросанными по холму то здесь, то там. Звук ручья исчез, его берега превратились в глубокий каньон.
Камешек, выскочив из-под копыт Белолобого, улетел вниз, разорвав тишину тревожным стуком.
Поднявшись выше середины холма, Аязгул свернул на едва приметную тропку. Она уходила в каньон и была настолько узка, что не всякий всадник решится провести по ней коня. Белолобый фыркнул, опасливо поглядывая в каньон, но охотник, взяв его в поводу, смело пошел вперед, и преданному коню ничего не оставалось, как последовать за ним.
Вскоре тропа стала шире: стена каньона начала выполаживаться книзу, но пришлось пробираться сквозь заросли тонкоствольных деревьев вишни и разросшихся кустов шиповника. Аязгул приметил сломанные веточки, свежие отпечатки лошадиных копыт.
«Тансылу! Это она! Черногривый запомнил дорогу, это его след!» – обрадовался Аязгул.
Пробравшись через колючие заросли, он вышел на небольшую поляну, над которой виднелся черный проем в скалах. Солнце уже осветило верхушки гор, птицы с шумом оставили свои гнезда, воспарив к светилу, но в каньоне по-прежнему властвовала тьма. Еле-еле через ее густое покрывало пробивался дневной свет. Аязгул пошел к гроту, и тут ржание коня многократно отозвалось эхом – это Черногривый учуял единокровного брата и приветствовал его. Белолобый ответил, а охотник, разглядев верного спутника Тансылу, заметил чуть поодаль от него качнувшийся пучок конских волос, украшавших шапочку девушки. Она притаилась между камнями в стороне от грота, прячась за разросшимися кустиками пахучих желтых цветов.
– Тансылу, это я – Аязгул! – опасаясь стрелы, охотник остановился.
Эхо, играя со словами, прокатилось по всему каньону: «Лу-лу-лу, гул-гул-гул…». Где-то скатился камешек, где-то вспорхнула птица. Тансылу встала из-за укрытия. В ее руках не было ни лука, ни стрел. Она смотрела вниз, и парню показалось, что он слышит шепот: «Аязгул…».
– Я с тобой, девочка, не бойся, – он быстро и ловко, взобрался к гроту, прошел по узкой тропке до желтых цветов и обнял Тансылу.
Она прильнула к нему, уткнулась в грудь лицом, обхватила руками. Ее плечики вздрагивали под ладонями Аязгула, но в тишине каньона слышалось только прерывистое дыхание девушки, похожее на плач без слез. Шапочка упала с ее головы, растрепанная коса скатилась по спине. Аязгул погладил Тансылу по волосам, по плечам. В его груди смешались все чувства: и радость, и жалость, и страх.
Тансылу первая нарушила молчание.
– Я зарезала Ульмаса.
– Я знаю.
– Знаешь? Откуда? – Тансылу испугалась, отпрянула.
Аязгул снова привлек ее к себе.
– Не бойся. Никто тебя не обидит.
– Отпусти, – Тансылу вырвалась, – ты… ты… почему ты ушел? Почему ты оставил меня? Он, он… этот вонючий козел, он…
Аязгул не знал, что ответить. Он молчал, но в его глазах светилось сочувствие. Тансылу заметила это, ее голос стал мягче.
– Что? Что ты молчишь? Ты знал, что так будет? Ты говорил мне о кинжале…
– Нет, ты не так поняла мои слова, Тансылу. Я… я не знал… Ульмас был груб с тобой, но… но, Тансылу, так бывает со всеми женщинами…
– Ха! Со всеми?! – в голосе Тансылу зазвучали угрожающие нотки. Со мной больше ТАК никогда не случится. Слышишь? Никогда и никто больше не прикоснется ко мне!
– Тансылу…
Она стояла, сжав кулаки, да и сама вся сжавшись, готовая прыгнуть на любого, кто посягнет на ее честь.
Белолобый напомнил о себе ржанием. Аязгул и Тансылу оглянулись. Конь стоял перед гротом и бил копытом землю.
– Идем, там еда, одежда, мать передала тебе, идем, Тансылу, – Аязгул взял вдруг обмякшую девушку за руку и увлек за собой.
Устроившись в пещере, где охотник застелил широкий камень охапками травы и сложил очаг из крупных камней, Тансылу и Аязгул провели там весь день и всю ночь. Беспокойство и страх беглянки улетели, как дымок костра, когда она снова почувствовала надежное плечо верного друга. Тансылу не заметила, как уснула, а Аязгул принялся варить суп из сушеного мяса, оказавшегося в припасах, заботливо приготовленных Дойлой.
Аязгул еще не сказал Тансылу о смерти ее родителей. Девушка и раньше отличалась быстрой сменой настроения, порой, странными поступками, которые Аязгул старался не замечать. Но сейчас, после всего пережитого, он боялся, что известие о гибели Таргитая и Дойлы сломят их дочь, и она не сможет противостоять еще не законченным испытаниям, которые продолжатся там, в долине, куда им уже надо отправляться, и поскорее. Аязгул помнил наказ мудрой Дойлы идти к дальним пастбищам, туда, где половина воинов племени охраняет стада, и эти воины встанут на защиту Тансылу, приняв последнюю волю ушедшей по своей воле жены вождя, как приказ. Да и друзей Аязгула там немало. Но надо торопиться. Старейшины племени и особенно брат Таргитая – Ишбулат, который, скорее всего, захочет стать вождем по праву единокровного родства, вряд ли примут еще совсем молоденькую девочку предводителем. Да и Аязгул, даже став ее мужем, останется чужаком. Хотя… Именно этот факт им на руку, ведь браки в кочевье старались совершать, объединяя мужчин и женщин из разных племен…
Аппетитный аромат мясной похлебки пощекотал ноздри. Тансылу проснулась и, опершись на руку, наблюдала за другом, задумавшимся у костра.
– Аязгул.
Он повернулся на голос. Улыбнулся. Подбросил дров в костер; сняв чашу с очага, подошел к Тансылу. Она села. Язычки огня отражались в ее глазах, в них не было и тени страха. Казалось, что ничего не произошло, что они, как и раньше, просто охотились и, застигнутые ночью, остались в пещере до утра.
– Тансылу, нам надо принять решение, – Аязгул смотрел в сияющие глаза и боялся, что его слова поднимут в душе девушки бурю, – нам надо ехать к дальним пастбищам и надо торопиться, чтобы успеть раньше Ишбулата.
– А что Ишбулат?
Аязгул опустил глаза.
– Давай покушаем, похлебка готова.
Он достал из хурджуна глубокие миски, горсть сушенных творожных шариков; прихватив чашу с похлебкой краями рукавов халата, налил горячий суп в миски. Распаренные куски мяса, дымясь, остались на дне.
– Ешь, Тансылу, суп восстанавливает силы, ешь, – он подхватил длинный кусок мяса и протянул девушке.
– Так что Ишбулат? – прихлебывая из миски, Тансылу разглядывала друга, – что-то ты не договариваешь. – Она прожевала мясо, закусила кислым куртом13. – Ты боишься, что я буду плакать? Не бойся. Говори. Что было после того, как я уехала? Как ты узнал об Ульмасе? Бурангул к отцу приезжал? Что сказал?
Аязгул отставил свою миску, промокнул губы рукавом халата.
– Бурангул убил всех воинов, которые сопровождали тебя к мужу, его люди убили Таргитая, и с ним еще троих воинов, когда они сражались у Батыр-камня. Дойла ушла с Таргитаем, взяв на себя твой грех. Смерть Ульмаса отомщена – из жизни ушли девять человек нашего племени, двое из твоей семьи. Ты знаешь, Тансылу, законы кочевья, – он взглянул в лицо девушки. На нем застыла маска гнева. Даже Аязгул не мог наверняка сказать, о чем она сейчас думает, что скажет или сделает в следующий момент, но он продолжил: