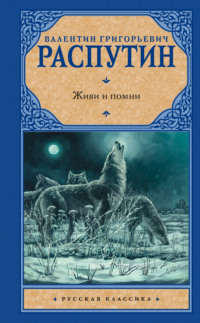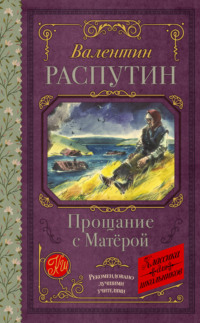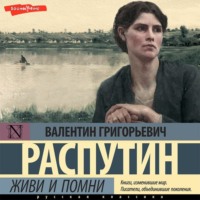Полная версия
На родине. Рассказы и очерки
В корме танцевали, и Виктор пошел туда, стал смотреть на танцующих. Здесь же были и муж с женой, за которыми он наблюдал в ресторане, когда они ужинали всей семьей. Кажется, только им одним танец и доставлял удовольствие, остальные топтались с нервным упрямством в движениях, с болезненной покорностью на лицах. На их лицах светилось наслаждение. Она положила ему руки на плечи, откинув голову назад и улыбаясь, и он, чуть приседая, кружил ее в полном и счастливом самозабвении. Но Виктору не пришлось долго любоваться ими. Муж что-то сказал ей на ухо, она в ответ засмеялась и покачала головой, но покачала с такой очаровательной медлительностью, и с такой удивленно-радостной отзывчивостью в глазах, что отказ этот и невозможно было понять иначе, как согласие. Скоро, все так же кружась, они оторвались от всех остальных и поплыли по палубе в сторону, все дальше и дальше, пока не скрылись совсем. И больше не появились. И снова, как и в первый раз, Виктор поймал себя на неловком и завистливом чувстве, он был рад, что они ушли, ему легче было наблюдать за такими же одинокими, как и он сам, и усталыми людьми, истомленными безуспешной надеждой дождаться своего счастливого мига.
Нет, что-то все-таки должно было случиться и не случалось.
С неба сорвалась звезда и, прочертив горящую линию, погасла. И тут же невесть с чего, как спросонья, коротко и жалобно хныкнул гудок теплохода. Сильней и ближе зазвенело небо и еще глуше и бледней стала земля. В отходящей к берегу волне, удлиняясь в свечки, играли звезды. Встречный ветер, треплющий освещенный прожектором флаг теплохода, дул поверху и не тревожил речную гладь, но после волны за кормой оставалась легкая зыбь. Изредка сбоку возникали желтые или красные огни бакенов, возле них шумела вода.
Широко и ярко гуляла над землей ясная майская ночь, уже летняя, смелая, но справа, на востоке, там, где заниматься заре, начинал слабеть край неба.
И все так же мучилась и болела душа, отзываясь на какое-то прекрасное обещание, звучащее в ночи с неистовой и страстной силой.
…Утром проснулся Виктор от странного и длинного скребущего звука – будто теплоход терся обо что-то бортом. Он прислушался: нет, теплоход двигался, его мерные и частые, подхватывающие друг друга толчки чувствовались отчетливо. Сквозь изогнутые под углом деревянные пластинки на поднятой в окне решетке играло на полу таким же тонко разлинованным рисунком солнце. В каюте было свежо и прохладно – значит, утро еще не нагрелось. Шел всего седьмой час.
Снова протянулся из конца в конец тот же непонятный звук, но уже слабей и выше, с глухим перестуком. Зевая и морщась со сна, Виктор поднялся с постели, опустил вниз и с трудом закрепил на задвижке срывающуюся решетку и вдруг отшатнулся: перед его лицом, едва не задев, подпрыгнула и исчезла грязная острая ветка. Впору было перекреститься: теплоход двигался по лесу. Мимо, царапая ветвями борт и оставляя на палубе сучки, проплыли две стоящие рядом березы, потом показалась верхушка сосны, потом снова береза.
Виктор торопливо оделся и вышел на воздух. Теплоход пробирался внутрь какого-то неведомого широкого залива, с берегов которого далеко в воду уходили деревья. Они торчали и впереди и сзади. Первое впечатление двоилось и подменялось; неясно было, что удивительней и невероятней: то ли считать теплоход, осторожно ползущий среди деревьев, огромным доисторическим чудовищем, то ли смотреть на деревья, растущие из воды, как на какую-то фантастическую картину.
Впрочем, фантастическую ли? Деревья были голые и жалкие, без листьев, с редкими, скатавшимися иголками хвои, с набухшими от воды осклизлыми ветками, с черными, похожими на гусениц, сережками на березах. Одни еще держались прямо, другие уже клонились, их потихоньку вымывало. На них, подпрыгивая, наскакивала волна, и тогда они с хлюпающим стоном качались, натягивая и без того ослабшие корни, качались, как плавуны, долго и бессильно, без той гибкости и игры, с какой ходит лес под ветром. На березе, стоящей на краю берега, лист был совсем желтый и мелкий, ветви обвисли, весна для нее так и не наступила, но дальше, как ни в чем не бывало, толпясь, взбегал в гору молодой крепкий сосняк, горела под солнцем сочной майской зеленью высокая осина.
После неожиданного в этих безлюдных местах и как бы нарочито приглушенного гудка теплоход приткнулся к голому, необжитому берегу, где на поднятом щите было накорябано название какой-то незнакомой, не существовавшей прежде на реке, пристани. На землю сошли две женщины и направились по дороге в гору. Теплоход тут же развернулся и пополз обратно, все так же крадясь между затопленными деревьями, где булькала рыба. Солнце поднялось уже высоко, стало теплей и суше, разошлись по сторонам и развиднелись дали. По берегу, перелетая одна за другой с елки на елку, с громким карканьем провожали теплоход две вороны, но в их корявом, раскатистом крике не было ничего, кроме любопытства. Навстречу, тарахтя на малых оборотах, как трактор, прошла моторная лодка, в шапке и телогрейке сидел в корме бородатый мужик, в носу лодки валялись мокрые неразобранные сети.
Залив, раздвигая берега, все расширялся и расширялся. Теперь уже плыли по чистой воде, не боясь ни за что зацепиться, и двинулись, набирая ветер, шибче. Просыпался на теплоходе народ, забегали ребятишки. Матросы в тельняшках, покрикивая друг на друга, суетились над чем-то в носу; шаркала веником по палубе молодая женщина в расстегнутом халате; из кухни снизу потянуло запахом разогреваемых щей.
Наконец еще после получаса хода теплоход выбрался из залива и, не сворачивая, направился куда-то к противоположному берегу, который темнел впереди далеко и неясно. Виктор и не представлял себе, как широко могла разлиться вода, и смотрел вокруг с удивленной оторопью, не зная, чему больше поражаться – ленивой ли мощи огромной массы воды, которую теперь называли морем, затопившей тысячи и тысячи гектаров земли, или тому, что все это заранее загадано и осуществлено с той точностью и уверенностью, которые никогда не поддаются пониманию несведущего в таких делах человека. От реки тут, конечно, ничего не осталось, и даже приблизительно нельзя было указать, где пролегало ее русло: еще ночью, когда Виктор спал, река захлебнулась и утонула во встретившем ее равнодушном разливе. От берега до берега было километров десять, если не больше, потому что вода обычно скрадывает расстояние; на севере, куда прежде уходило течение, земля не смыкалась долго до далекого и низкого горизонта.
Вода казалась неподвижной и серой. Бревно, оставшееся за кормой, не смещалось в сторону, а только отдалялось от теплохода; и высокое, почти прямо стоящее солнце не могло проникнуть внутрь, освещая лишь мутное и блеклое колыхание. В ней уже не было причудливой игры синей и зеленой красок, живой и волнующей неустанности в красоте и радости свершающегося движения, смутного, темно-бутылочного сияния глубины, и чистой, со стеклянным звоном, музыки на перекатах, и волнистых поперечных дорожек от впадающих с силой горных речек, и гордого, манящего к себе вида островов – всего того, что еще только вчера несла с собой река. Из края в край вода лежала покорно и глухо одной необъятной равниной, подавляя своей тяжестью унылые и низкие берега. Воздух над ней был пуст, не носились в нем стрижи со свистящим, отрывистым звуком, не заливались ласточки, не собирались они в дружные, гомонящие – хоть уши затыкай! – стаи, чтобы отогнать ястреба. Зато, как знал Виктор, появились чайки, стали прилетать откуда-то большие, невиданные прежде в этих местах орлы – море, какое бы оно ни было, постепенно обзаводилось своей жизнью.
Теплоход между тем приближался к большому, стоящему, видимо, на вырубке селу: ниже улиц густо желтели круги пней. Среди старых, почерневших изб много было новых, срубленных совсем недавно; их красноватые, с потеками от запекшейся смолы стены пылали под солнцем ровным налитым жаром; крутые тесовые крыши висели легко и весело, готовые, казалось, оторваться и улететь. Несколько домов стояло и совсем богато: под шифером – не слыханная раньше роскошь! В палисадниках уже прижились рябина, березки, елочки. Кое-где на улицах остались от леса и сосны, но, как всегда в соседстве с человеком, они изо всех сил торопились подняться вверх и торчали голо и бедно, с неказистыми ветками на макушке.
Со всех сторон этого села к пристани торопились люди. Трещали мотоциклы, виляя из стороны в сторону в безуспешной попытке объехать пни и все-таки прыгая по ним; затеяв отчаянную возню, носились по берегу собаки; две коровы, подняв от травы головы, смотрели на подходящий теплоход пристально и очумело; от гудка стреканул к огородам теленок и жалобно замычал там, косясь на незнакомое голосистое чудовище; за пряслом, возле которого дрожал теленок, взлетел на голову огородного пугала петух и загорлопанил с бурлацкой откровенностью, внося свой вклад в общее оживление. И ребятишки, ребятишки, которые, как горох, сыпались из каждой щели. Какой-то карапуз, сверкая рыжей головенкой, не поспевал за растянувшейся цепочкой детей постарше и от обиды ревел на бегу, но никто не обращал на него внимание, все неслись как угорелые. Наконец, запнувшись, карапуз упал и зашелся в крике, зовя кого-то, – и дозвался: такая же рыжая, как и он, девочка лет семи или восьми, бежавшая впереди, быстро развернулась, подскочила к мальчишке, торопливо отшлепала его и снова помчалась дальше. Он тут же вскочил и кинулся за ней – удивительно и непонятно было, как мог он бежать и одновременно, не прерываясь, кричать столь громко и требовательно, заглушая своим ревом все остальные звуки.
Вот так же когда-то и маленький Витька, как эти ребятишки, мчал со всех ног к первому пароходу и, не зная, что с собой делать от радости, готов был лезть в воду и тонуть. После того лишь и наступало по-настоящему лето, как из-за Верхнего острова появлялся знаменитый в те годы «Лейтенант Шмидт», вечно заваливающийся на один борт пассажирский колесник, и издавал протяжный приветственный гудок. О, что тут творилось, какая подымалась суматоха! Хлопали двери, калитки, ворота, с единым многоголосым воем, разбрызгивая по сторонам всякую мелкую живность, вроде куриц и поросят, неслась по улице детвора. Кто-то палил из ружья, кто-то, забравшись на колхозный амбар у пристани, размахивал содранным с сельсовета флагом. Тарахтели телеги, ржали разгоряченные кони. Все, что только могло ходить, выплескивалось на берег. Не помеченный красным числом, не сдабриваемый выпивкой, не отпущенный на отдых, это был праздник, который ждали ничуть не меньше, чем любой другой. Да и потом уже, позже, всякий раз как прийти пароходу, на пристани собиралась толпа, до полуночи и больше, если он опаздывал, жгли костры, но не расходились. Матери, заслышав гудок, туркали ребятишек: «Беги скорей, посмотри, кто к кому приехал, да гляди не перепутай».
Что и говорить – летом деревня оживала. Наезжали гости, привозили подарки, да и сами деревенские изредка позволяли себе сесть на пароход и отправиться куда-нибудь по делам и заботам. Добирались сюда с экспедициями и совсем чужие, незнакомые люди из больших, по-чудному звучащих городов, которые, оказывается, действительно существуют на свете, а не придуманы только в книжках (одно лишь название своей деревни представлялось понятным и вечным, словно с нее и пошла земля, остальные почему-то походили на шуточные, несерьезные, которым то ли верить, то ли нет). А кроме того, всегда интересно было не просто смотреть на пассажиров, стоящих на палубе в забавных, невиданных одеждах, но и представлять себе, что и ты когда-нибудь нисколько не хуже их возьмешь да и покатишь куда-нибудь, куда твоей душеньке будет угодно.
Но проходило лето, подступала зима. И – Боже мой! – как тоскливо и горько – хоть плачь! – становилось на душе, когда последний пароход исчезал все за тем же Верхним островом, а вслед ему задувала холодная, с дождем и снегом, низовка; печальная, сиротливая деревня оставалась одна-одинешенька на всем белом свете со своей неказистой судьбой, на долгие месяцы в терпении и надежде оставалась ждать следующего лета. И снова жгли костер, но он был прощальным, и вокруг него стояли молча и подавленно, грея руки и спины, снова кто-нибудь палил из ружья, но от выстрелов этих еще больше сжималось сердце.
Но и зима проходила. Поверите ли, из-за Верхнего острова опять появлялся «Лейтенант Шмидт»…
Под шум, гам, треск, лай и вой всего, что собралось на берегу, теплоход ткнулся носом в дно на довольно почтительном расстоянии от земли и замер. Стало ясно, что пристать здесь не просто: берег низкий, дно высокое, вода держится только поверху. Отгребаясь, теплоход сдал назад и попробовал сунуться в другом месте – то же самое. После четырех безуспешных попыток подойти ближе, на которые ушло почти полчаса, когда толпа на берегу не переставала подавать советы, один лучше другого, капитан, потеряв терпение, крикнул наконец сверху «стоп!», и теплоход застыл, оттянув на всякий случай корму в море. Автоматический трап, красиво развернувшись в воздухе, не достал до земли даже наполовину; по трапу, повисшему в пустоте, полез матросик, волоча за собой стремянку, но и ее оказалось недостаточно. С берега матросику толкнули доску, потом сбегали еще за одной – с большим трудом переправа была все-таки наведена, хоть и непрочная и дырявая, потому что в стыке доски и стремянки плескалась вода.
И тут же на теплоход ринулись мужики. Матросик пытался остановить их, срывающимся тонким голосом кричал, что сначала надо выпустить приехавших, но, оказавшись в воде, сразу притих и стал заворачивать наверх свои мокрые штанины. А мужики все перли и перли – весело и отчаянно, и все налегке, без вещей, от посадочных талонов, которые им пытались вручить у трапа, они отмахивались и бегом, громыхая сапогами, один за другим бросались куда-то внутрь.
– Васька-а! На меня не забудь. Васька-а-а! – надрывался кто-то с берега.
Впереди толпы Виктор увидел и своего знакомого – рыжего карапуза лет четырех, который перед тем с шумом и приключениями добирался до пристани. Лицо у него было конопатое, в крапинках, слезы давно высохли, и он, бороздя обутыми на босу ногу сандалиями воду, в которую, наверно, и сам не помнил, как забрел, смотрел на теплоход и на всю связанную с ним суету с внимательным и серьезным удивлением. Сзади, не предупреждая, к нему подскочила все та же похожая на него, скорая на расправу девчонка, без всяких объяснений шлепнула его и, как ни в чем не бывало, не переставая что-то возить во рту, вернулась к своим подружкам. Мальчишка дернулся, но смолчал. Более того – он понял назначение этого шлепка, неторопливо отцепил с ног сандалии и кинул их на берег. Без них он почувствовал себя даже лучше и уже смело стал бродить туда и обратно перед теплоходом, пока не взобрался на затопленный пень. Потоптался, потоптался на нем и решил сесть, но только успел окунуть в воду место, на которое садятся, как к нему опять проворно метнулась девчонка, имевшая на него какие-то особые права, и снова быстро и ловко, с заученным механизмом размашистого движения, нашла этому месту свое привычное применение – с сочным и аппетитным звуком. Но и тут мальчишка догадался, что к чему, и сразу принялся стаскивать с себя штанишки.
– Гринька, паразит, – жующим говорком предупредила его девчонка, – если ты еще рубаху сымешь, я тебя утоплю – так и знай.
Снимать рубаху Гринька не решился. Зато после некоторого раздумья он приподнял свой открывшийся всему белому свету отросточек и, направив его в сторону теплохода, стал булькать в воду. Кончив, содрогнулся всем телом, вздохнул таинственно и печально и сел, как до того собирался, на пень под собой, погрузившись в воду по грудь и, конечно, замочив последнее, что на нем осталось, – рубашку.
Теплоход загудел и за длинным гудком дал сразу все три коротких. И посыпались, посыпались обратно на берег поразбухшие мужики, позвякивая бутылками, натолканными в сетки, сумки, в карманы, за пазуху – всюду, где их можно было пристроить. Теперь объяснилось, что вело их на теплоход в одном страстном и могучем порыве; словно пытаясь оправдать их, Виктор вспомнил, что сегодня воскресенье. Парень в синей спортивной майке с длинной единицей на спине, взбугривая огромные волосатые руки, вынес ящик пива, осторожно опустил его на землю в сторонке от толпы и, не обращая внимания на подскочивших к нему дружков, которые радостно хлопали его по спине, принялся сбивать первую пробку. Рослая и здоровая, молодая еще женщина с ленивой деревенской красотой молча гонялась за юрким плюгавеньким мужичонкой. Вертясь от нее в толпе, он успевал незаметно опускать в заботливо подставленные карманы прозрачные бутылки с простой и выразительной наклейкой. Одним словом, к тому времени, когда капитан подал команду сниматься, жизнь в этом поселке уже обещала интересное продолжение.
Теплоход не без труда оторвался от земли, пополз, трап, переламываясь посредине, поплыл наверх, но тут выскочили откуда-то еще два мужика, кинулись к трапу и, хватаясь руками за трос, полезли по нему, так что трап пришлось выпрямлять, потом, как с вышки, покачавшись на его пружинящем конце, под смех и крики с той и другой стороны бухнулись в воду. Третий мужик торопливо и нервно, со свистящим выдыхом, перебрасывал бутылки на берег. От них шарахались, разбегались, затем снова смыкались, чтобы поднять, но две бутылки, угодив о пни, разбились. Освободившись от груза, мужик бросился за борт и сам, но ему понадобилось уже подгребать, прежде чем удалось встать на ноги. Мало того, был еще кто-то и четвертый, невидимый Виктору сверху, потому что люди на берегу, приплясывая, кричали:
– Прыгай! Прыгай! Петро, прыгай!
– Та я ж плаваты не можу, – с мягким хохлацким выговором отвечал им этот Петро.
– Тогда бутылку бросай! Бутылку!
– Та вы ж выпьете.
– Ну, Петро, – громко терзал его чей-то женский голос. – Задаст тебе Анка, как приедешь. Она тебе задаст – о-е-ей! Она тебе что говорила? Ты ей что говорил?
– Анке кажите, щоб блюла себя. Кажите, що скоро прииду.
– Она тебе поблюдет. Ты сам-то себя как блюдешь? Ты ей что говорил?
– Петро-о! – вдруг возопил кто-то громче всех через сложенные рупором ладони. – Держись, Петро, я тебя выручу. Я за тобой сейчас… Слышишь, Петро?
– Слышу-у. Выручи, Семен.
Семен на берегу рысцой побежал к стоящим длинным рядом справа от пристани лодкам. Слышно было, как там зазвенела цепь, потом зачихал и частой дробью зашелся мотор. И вот уж Семен в красной полосатой рубашке достал на своей лодке теплоход, пристроился сбоку.
– У тебя, Петро, деньги с собой есть? – спрашивал он.
– Та есть маленько.
– Ты на меня там штуки две или три возьми. Хватит у тебя? Мне только до дому, я отдам.
– Та хватит.
– А я тебя выручу. Мы с тобой, как штык, сегодня же обратно будем. Твоя Анка раскипятиться не успеет, а мы уж тут.
Виктор сошел вниз, к расписанию. До следующей пристани было больше сорока километров, два часа ходу. Когда он снова поднялся на палубу, лодка Семена уходила с задранным носом в сторону от теплохода, выбрав свой, более короткий путь, а сам он, накрывшись от ветра и брызгающей воды не то плащом, не то куском брезента и низко склонившись в корме, походил на большую нахохлившуюся птицу. Но примерно через час Виктор услышал из своей каюты, как хриплый, простуженный голос звал:
– Петро! Петро-о!
Виктор выглянул: лодка Семена опять шла сбоку, впереди волны, а Семен сидел в совсем мокром и дырявом плаще и, вытягивая шею, продрогшим басом выводил:
– Петро-о! Где ты, Петро-о?
Затем лодка отстав, исчезла, и голос сдавленно донесся с другой стороны:
– Петро-о!
Но Петро не отзывался.
К пристани Семен поспел раньше теплохода. Спустили трап, и он сразу встал возле него с блуждающей и застуженной улыбкой. Стали выходить пассажиры – две старушки, одной из которых помогал матрос, женщина с ребенком и солдат. Последним, держась обеими руками за тросяные поручни и все равно сильно шатаясь, спускался невысокий, хорошо сбитый мужик со стриженной под машинку головой, на которой только у лба болтался узкий, как ленточка, светлый чубчик. Лицо Семена на мгновение вытянулось, затем улыбка разошлась на нем еще шире. Он подхватил мужика под руки и, что-то быстро и весело говоря ему, повел к лодке.
После обеда Виктор впервые увидел чаек. Две птицы летели за теплоходом с красивой и важной медлительностью, держась рядом, плавно и торжественно двигая длинными крыльями. Сияло солнце, но небо побелело и подул встречный ветер, который, казалось, загибал и сносил солнечные лучи. По морю заходили волны, взбивая пену, и чайки, садясь на воду, сразу терялись в ней. Садились они часто, как только долетали до какой-то определенной черты, которую не хотели переступать, чтобы не оказаться к людям ближе, чем это положено. Затем всякий раз издали доносился гортанный крик, и чайки, как под команду, одновременно взмывали.
Берега по сторонам были все так же унылы и однообразны. Солнце мало веселило их. Лес, не затопленный водой, чудом спасшийся от смерти на кромке своего счастья, словно бы не до конца верил в это чудо и ждал для себя какой-то новой беды. Выглядел он неопрятно и запущенно, со случайно торчащими деревьями, спрятанными прежде в тайге и не готовыми к тому, чтобы стоять на виду. Да и берега как такового, как линии между водой и землей не было, за одним сразу начиналось другое, и даже более того – не успевало кончиться одно, заступало другое. Нигде еще, сколько сегодня плыли, не видел Виктор ни каменишника, ни песка, очерчивающих эту границу, нигде не возник перед глазами яр с красками глины и камней в стене, с аккуратно выложенным красным плитняком подножием. Когда-то теперь все это установится, отстоится, придет в порядок и красоту.
Но иногда вдруг появлялись поля, и сразу отходило на душе. Этот небольшой просвет в заунывной синеве чащи был как желанный отдых посреди долгого и утомительного пути. Где-нибудь на краю поля чисто и бело теплилась березовая роща, дальше, где даже тени светились отраженным сиянием, прозрачной зеленью курились кружочки полян. И так хотелось перенестись туда, уткнуть голову в траву, на которой замысловатыми кружевами сквозь листья деревьев играет солнце, и уснуть, оглушенному цырканьем кузнечиков и важным, державным шумом верхового ветра.
Но, развернувшись, поле исчезало, и опять наплывал сырой и сумрачный лес, платящий бесконечной тоской за то, что, не спросясь и не подготовив, его вывели на передний план.
Вода разошлась еще полней, умножившись в воды; ее слепой могучий разлив вызывал какое-то неопределенно-зыбкое, словно миражное чувство удивления и растерянности. С глухим гулом возились волны, едва намекая на скрытую изнутри силу, по волнам ходили яркие и резкие блики падающего солнца, в холодном ветреном мареве дробились берега. Далеко справа прошла навстречу самоходная баржа, груженная лесом, с нее доносилась музыка, и видно было, как на веревке треплется белье.
Длинным усталым звуком свистел в пустом воздухе ветер, ищущий преграды и забавы. И такой же продолговатой впадиной, в которой лежало море, как верхняя прозрачная створка, висело невысокое вытянутое небо.
Строгая и по-своему красивая картина. Только все в ней было как-то просто и ясно, как в сколоченном собственными руками ящике, которым можно гордиться, но в котором знаешь каждый сучок. Не витал в поднебесье над этими многими водами чистый и ветхий дух тайны, заставляющий в детском изумлении перед красотой вопрошать ежедневно и ежечасно: как, зачем, с каких пор, откуда это взялось и продолжает браться? Перестала трепетно и пламенно, обмирая от глубины, биться душа над пропастью времени, и ушло, закрылось прочной крышкой ощущение вечности. Все здесь было понятно – и как, и зачем, и с каких пор, и с какой целью.
Ветер натягивался, смелел, покачивало уже не на шутку. Но чайки все так же, то садясь, то снова взмывая, продолжали лететь за теплоходом. Только крылья их стали как бы короче и махали они ими чаще, с видимым усилием преодолевая ветер.
Последние часы перед прибытием были особенно тягостны. Ветер к вечеру поутих, волна спала, море еще колыхалось, но как-то лениво и бессмысленно, больше напуская на себя морской форс. Небо выстоялось и посинело, солнце сходило под уклон чистым, ровно горящим кругом. Чайки за кормой уже и не летели, а плыли в воздухе, изредка вздрагивая крыльями. С вязким, замедленным звуком шумела за бортом вода, вяло трепыхался наверху флаг, утихли по своим углам ребятишки, весь день с нарочитым, громким топотом бегавшие по гулкой палубе, – все вокруг выравнивалось в общем большом ожидании всякого разного: темноты, отдыха, пристани, новизны.
Прежде Виктор наизусть знал места, мимо которых сейчас плыли. Начиная с пятого класса он учился в райцентре, в пятидесяти километрах от дома: ближе средней школы тогда не было. На зимние и весенние каникулы добираться в деревню много раз приходилось пешком – машину за ним, конечно, никто не посылал, а попутки в эту сторону выпадали редко, а если и выпадали, то недалеко. Сейчас и самому с трудом верится: 12-летним мальчишкой он за день отмахивал все пятьдесят километров. Шел и вел свой счет: десятая часть дороги позади, шестая, четвертая, третья… стараясь обмануть себя и оставить впереди побольше километров, чтобы потом, когда он совсем устанет и будет двигаться медленно, они таяли сами собой.