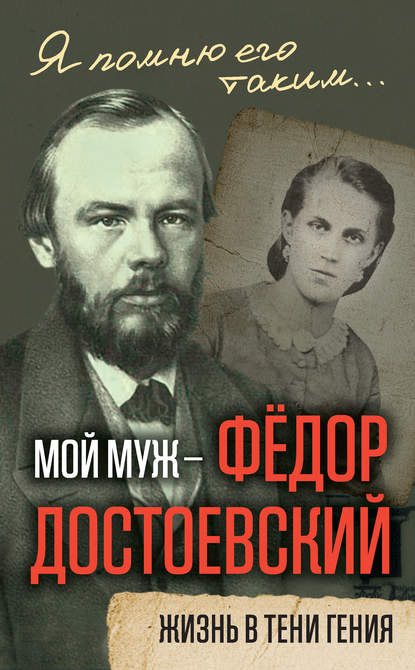Полная версия
Мой друг – Олег Даль. Между жизнью и смертью
А на съемки в море мы выходили строго по графику, невзирая ни на какие шары, ни на уже начавшиеся балтийские шторма. Команда судна была маленькой: пять эстонцев и один русский – механик. В каждое плавание брали с собой ящик ликера «Vana Tallinn» – для поддержания «боевого» духа.
Збруев, Миронов и Даль приятно поразили всех (и команду, и группу) своей внезапно обнаружившейся мужицкой крепостью, хотя условия в море оказались и для людей бывалых нелегкими.
Ну, а для того, чтобы было понятно, как нам порой приходилось «кувыркаться», приведу один из своих диалогов с нашим капитаном Пикком:
– Слушай, Пикк, почему сейнер неуправляемый?
– Ваниа, мы руль паттерья-али…
– И что?
– Если до острофа доплывем, то ветер снесет к берекк.
– А если нет?
– Разопьемса о камни.
Так вот мы и снимались тогда с Олегом и его молодыми товарищами…
Последующие встречи с Далем не были частыми, но были – немногословными, что, как ни странно, мне приятно. Помню, я столкнулся с ним, когда он сыграл Шута в «Короле Лире»:
– Олег, а у тебя хорошая работа получилась!
– А-а-эх-х!
Длинная далевская рука с расслабленной кистью резко рубанула воздух и повисла плетью. Для себя я отметил: «О-о, это что-то новое!» Точно таким же жестом он отреагировал и на мои успокоения по поводу его горького участия в «Земле Санникова» – тремя годами позже.
Потом я заметил этот жест недовольства и в его экранных ролях. Но убежден, что это просто «просачивалось» на экран из жизни. Безусловно, из его жизни, в которой он оставался непонятной многим натурой.
Да, Олег не был доволен своими работами. Постоянно хватаясь, как за соломинку, то за режиссуру, то за сочинение стихов или сценариев, он всю жизнь искал. И всю свою короткую жизнь он оставался «не при деле». Мне кажется, в этом и была трагедия этого редкого русского Таланта.
Москва, 18 января 1994 года
Леонид Агранович
Он органически не мог врать
Давайте не по порядку, чтобы потом чего-нибудь не забыть. Вот, начнем с ярославской тюрьмы.
Во-первых, когда мы приехали туда снимать, Олег попросился посидеть в камере. С уголовниками. Это было очень легко устроить, поскольку мы там уже снимали сцены, и он провел там сутки, реализуя свой, какой-то острый, страстный художнический интерес ко всему этому. Ну, и сказал: «А что, люди как люди». Ничего такого специфического он в них не обнаружил. По-видимому, он очень легко нашел общий язык с ними. Наверное, не самые страшные «статьи» были к нему подсажены из того, что тогда имелось… Хотя, нужно сказать, что тогда заключенные в тюрьме были самым дисциплинированным народом. Это вот сейчас там происходят какие-то взрывы, мятежи в колониях, а тогда все было спокойно, нормально.
Во-вторых, там же мы снимали (и это есть в картине) момент освобождения. Камера снималась в павильоне, художник Женя Черняев делал специально «рубашку», которую нужно. А вот все эти сцены – это настоящая тюрьма. Видно даже по стенам…
И там пришел этап, переводили в тюрьму заключенных, как я сейчас понимаю. Они были отдельно, где-то там у входа… Я помню свои ощущения. Там был один с такой длинной бородой, и я подумал: вот, наверное, страшный человек. Я представил себе, что он какой-то убийца, что у них какие-то религии с убийствами, с жертвоприношениями. Чего-то я такое выдумал. А Олег, пока мы ставили свет, настилали рельсы – съемки, ведь это процесс занудный, походил-походил, а потом пошел туда, к ним, к этапу.
Тюремная администрация была растеряна. Мы, штатские люди, ходили по тюрьме куда ни попадя. Электрики, осветители, ассистенты – они ведь не церемонятся. Им надо, чтобы все было на месте. Олег вдруг пошел, и я вижу, что он там «глубоко общается». И со стариком этим бородатым, и старик этот чего-то руку ему на плечо положил… Меня немножко «мороз» пробрал. Теперь-то, думаю, когда уже политических нет, ведь вот они, ПРЕСТУПНИКИ – уголовные, страшные. И вот он с ними прекрасно общался. Я вдруг увидел, как он не отличается от них. Сам-то он в этот момент играл заключенного, и я подумал: как он смешался с пейзажем, с этим контингентом. Вот он был такой, хотя он был тогда мальчиком. И откуда у него была такая страсть к познанию и такое бесстрашие? Вот – Олег.
Теперь – сначала. Привел его Володя Семаков, который был ассистентом на картине «Мой младший брат» у Зархи. Там они познакомились, подружились. А мы искали: какого артиста надо для этой роли? Он говорит: «Вот Даль…». Володя отвез Олегу сценарий, потом его привел, и мы спросили:
– Ну, как, вам нравится это?
– Нравится…
– Ну, будете играть.
Когда Володя его привел, сразу стало понятно, что, конечно, Даль должен это играть. Мы его постригли еще до утверждения. И когда он, постриженный – такая шишкастая голова, – уселся… И – странный… Причем, нужно сказать, что он, как всякий большой артист (тогда мы еще не знали, что он большой артист, знали, что – способный), заставлял принять себя таким, какой он есть.
У него было не очень благополучно с дикцией. Вряд ли он получал одни пятерки в театральной школе. Он был странен, у него была какая-то специфика в речи. Вообще, у него была масса недостатков. И внешне он был не очень эталонен, как какие-нибудь красавцы. Он был не красавец. Он раздражал. Он раздражал своим поведением. И он был самим собой. Олег был той самой кошкой, которая ходит сама по себе. Тем не менее, здесь он был как-то «в лист».
И еще я заметил одну замечательную вещь.
Поскольку это была моя первая картина как режиссера, я ко всем приставал и старался, чтобы у меня все люди сыграли как написано.
Почему я взялся за постановку? Потому что меня, например, не устроило, как режиссер Ордынский снимал «Человек родился». И картина имела успех, и все, и Ордынский был прав, но мне хотелось, чтобы все было так, как я написал.
И тут, на съемках картины «Человек, который сомневается», по-разному реагировали актеры. Артист Куликов, у которого была большая замечательная роль, все хотели ее играть, отбоя не было от желающих, – на меня обижался. Обижался, обижался, пока однажды, где-то в конце картины, чуть не взбунтовался, потому что я заставлял его, гнул какую-то свою линию, не давал ему вздохнуть. А Олег очень спокойно и дисциплинированно, заинтересованно выслушивал мои рассуждения по поводу каждой сцены и кусочка – и все делал по-своему. Было совершенно ясно, что иначе он не может. Он органически не мог врать. Вот это в нем существовало, и это меня довольно быстро с ним примирило. Иначе он не может. Не может! Вот он ТОЛЬКО ТАК может. У меня было такое ощущение, что он все делает чуть-чуть мимо. Куликов все делал точно, а Олег все делал мимо. И он меня немножко беспокоил…
Мы начали сдавать материал. Директор «Мосфильма» Пырьев, который дал мне эту постановку (ну, это уже другой разговор, не про Олега, о том, как я ее получил), был вроде нашим покровителем. Когда Иван Александрович первый раз смотрел материал, он взбесился и заявил раздраженно буквально следующее: «Герой у тебя – подонок (имелся в виду Олег). Мать его – б…». В общем, картина такая: непонятно, для кого делаешь то, что делаешь.
Я тихо сидел у микшера. А это был Пырьев, он не терпел никаких возражений. С ним никто не спорил, даже сам Юткевич. И вот, я сидел глухо у микшера, понимая, что мне полный конец и все – бред. Я сказал: «Иван Александрович, я же не могу строить всю свою работу из одного соображения, чтобы угодить Пырьеву». И стало безумно тихо.
В этом директорском зале сидело человек двадцать – моя группа и какие-то его приближенные. Иван Александрович поднялся, пошел к своему пальто, палке и шляпе, которые лежали тут рядом, на кресле… Его уже два часа ждал Президиум оргкомитета Союза, который тогда образовывался, – он был там главным и заставил всех сидеть и ждать, потому что важнее – вот эта картина, производство, а остальное все – мура. И там его ждут знаменитые крупные люди, а здесь какой-то мальчишка «позволяет себе», и он теряет время на это! Он был очень огорчен. И ссутулившийся, оскорбленный Пырьев, ни слова не говоря, взял свое хозяйство, пошел к дверям и, уже возле них остановившись, полуобернувшись, сказал: «На вашем месте, Ленечка, я бы так не говорил». То есть я такая сволочь неблагодарная! А это вот я заступался за Олега, потому что не мог примириться.
Но все равно, оставалось какое-то ощущение, что где-то Олег не очень точен, где-то он мог быть и поочаровательнее, и помилее, и не такой скрипучий, и не такой раздражающий – он все время раздражал.
А потом я увидел, какой он имеет успех и что на нем держится картина. Когда через 20 лет посмотрел эту картину (уже прошли большие 20 лет, многое заставившие нас пересмотреть и передумать!), я увидел, что в картине один Олег Даль настоящий. Все остальное – на уровне нормального нашего среднестатистического кино, которое может быть, может не быть, а Олег один – настоящий. После него я видел много тюрем и заключенных, и судеб разных, и делал картины… Вот он – подлинный, он – настоящий, со всеми этими недостатками.
Более того, есть интересные вещи. Нас заставили немножко помучиться. Кто-то там донес, что картина «не та»… И были просмотры. Приезжал товарищ Грачев, такой маленький блондин, заведующий Отделом административных учреждений ЦК КПСС, который ничего не сказал, посмотрел картину и исчез. Потом появился у меня министр внутренних дел товарищ Тикунов Вадим Степанович – духами от него пахло, обихоженный такой человек…
А в картине был удар по милиции. За прокуратуру был я, у меня консультанты были все из прокуратуры – прокуратура была хорошая, а вот милиция – нехорошая.
Посмотрев картину, Тикунов сказал: «Так. Ладно. Я картину, в общем, принимаю, мне нравится. Но вот это место я ни за что не пропускаю. Просто режьте меня на куски, но это я не могу принять…». А там Олег кричал: «Когда тебя бьют сапогом в живот…». О том, что избивали и почему он сознался, когда следователь прокуратуры его спрашивал: «Зачем ты на себя наговорил?» Вот крик такой, истерика. Тикунов же настаивал: «У нас бьют в милиции. Бьют. Но где? При задержаниях, в вытрезвителях, но если человек уже сидит, его допрашивают, на него заведено дело, то это вряд ли, это немыслимо, если вы мне это найдете и назовете…»
Я сказал: «Конечно, я не найду. Где найти? Кто мне расскажет, кого вы избиваете на допросах?» Но было совершенно ясно, что мне придется это вымарать. И мы, не меняя там ни одного метрика, ничего в монтаже не трогая (тогда я бережно с этим обращался), заставили морщившегося Олега – ему это не нравилось очень – произнести какую-то муру так, чтобы губы в кадре смыкались: «Когда тебе врут!» Какую-то ерунду он нес там, «рыбу» какую-то. Это вот осталось в картине.
Потом она была принята, пошла широко, был у нее тираж и пресса – все, как полагается, но, сколько бы мы ни участвовали в очень больших обсуждениях (в Красноярске, допустим, был гигантский зал – тысяча или больше человек – во Дворце культуры), кто-нибудь обязательно говорил: «Его же избивали в милиции!»
Это, может быть, ответ на вопрос Льва Романовича Шейнина: как же мы не объяснили, почему это все происходит? Его же избивали в милиции, и никто это не опровергал. Так что, кроме того, что Даль это играл, это СУЩЕСТВОВАЛО, присутствовало, переживалось. Есть еще и какой-то другой закон – вычеркнуто, а играл-то он вот ЭТО. Какой там текст не подложи, в особенности когда смотришь картину в каком-то сельском клубе, где ни черта не видно и ни черта не слышно, но публика, привыкшая к нашим «замечательным» условиям проката, все отлично понимает и переживает подлинные обстоятельства.
Мы просто удачно проскочили с «Человеком». Тогда, несмотря на то, что заволновались какие-то товарищи в административном отделе, тем не менее, мы нашли поддержку. Мы показывали картину Генеральному прокурору СССР Руденко и старику Горкину, Председателю Верховного суда. В общем, был специальный наказ, они пришли запрещать, поскольку возникло такое мнение… «надо закрывать». Ну, как это такое: человека вдруг приговаривают к расстрелу. Зря. Могли и расстрелять, если бы не произошло дополнительное расследование. Как это в нашей прекрасной социалистической юстиции вдруг приговаривают человека? Там было много неприятных вещей. Ненужных вещей. Там была очень комплиментарная картина в адрес вообще всей прокуратуры. Даже такой широко мыслящий человек, как Лев Романович Шейнин, и то – покривился, поморщился. Мол, недостаточно хорошо картина сделана.
А тут были у меня Руденко и Горкин. Два человека – и все. Вот мы им показывали картину. Мне кажется, Олег был тогда в зале. Почему-то у меня такое ощущение, что он был, сидел где-то рядышком. Не первый ли раз он тогда смотрел всю смонтированную картину? Был, был – точно. И Руденко меня так похлопал по коленке, сказал: «Все в порядке». В общем, они не стали запрещать, попрощались, поручкались и ушли. Все. С тех пор все решили, что мы им картину сдали. Куда уж выше? Какие инстанции еще? Посмотрели они – и все. Пошли печататься копии.
Ездил ли Даль с картиной по стране? Мне кажется, в Красноярске он с нами был. А потом либо он где-то снимался, либо в театре играл. Лучше всего ему было в театре, конечно. Поскольку он был очень талантлив и профессионален с младых ногтей, он очень легко входил во все системы, в любую группу. Я уверен, что он замечательно себя чувствовал в Ленинграде на «Лире» у Козинцева, наверняка был любим всеми. Его нельзя было не любить, при всем раздражении.
Это тоже ведь свойство артиста. Большого артиста. Вот, скажем, Певцов, большой петроградский и ленинградский артист, немножко заикался. Гликерия Николаевна Федотова была немножко кривобокенькая. Алиса Георгиевна Коонен была с кучей каких-то физических недостатков – со странной речью, с моргающими глазами. Я, например, ее не очень воспринимал… Любимцы публики, властители дум. Вместо того чтобы подладиться и создать из себя нечто такое, всех устраивающее, эталонное, нейтральное, стерилизованное «никакое», артист заставляет полюбить все его недостатки. И этим становится прекрасен. Ему даже подражают. Молодые артисты всегда подражают недостаткам какого-то другого артиста. Достоинствам труднее подражать… Начинают волочить ногу…
Олег был сам по себе, у него был свой голос, с детства, с молодых лет. У него же почти дебют был в картине. Я вот не помню почему, но у Зархи он был недоволен фильмом.
Он очень увлеченно играл, потому что в сути своей была правда: защита невиновного человека, который попал в страшный переплет. И то, что он был не душечка, не «первый любовник», – в этом была также и огромная наша заслуга, что мы его взяли в картину и спаслись этим, ибо он привнес, конечно, много правды в это дело. Человек в этой ситуации уже неприятен. Когда сидишь в тюрьме или где-нибудь в следственной части и рассматриваешь людей… Кажется, что от них пахнет не так, что они все не те, что они… В общем, это ужасно. Ужасно! Это нечеловеческое состояние, и Олег это вдруг ощутил как-то и передал. Не зря он так кидался общаться с заключенными, ощутить запах карболки, глухоту камеры, лязг дверей, топот каблуков по коридорам. Все это он воспринимал, впитывал и за какие-то дни узнавал лучше моего. Нет, он был замечательный актер…
Он соответствовал по возрасту, по всему. Но вот, например, хуже нет сцены, где он должен был изображать любовника, когда на его остриженную «под нуль» голову мы нацепили золотой парик. И вот играть это надо. Да еще «наплывы» сделали, пойдя на поводу у соавтора с оператором, которые все просили творческого самовыражения. Там получилось сусло, мура какая-то. И Олегу сразу тошновато стало от этого всего. Какая-то была в этом неправдочка. Зато во всем подлинном он себя чувствовал замечательно. Абсолютно. Он всегда был готов. Нужно сказать, это свойство есть у всех настоящих артистов. Абсолютная точность по времени. Если этого нет – это уже чистый эгоизм. Олег работал по старинке: он входил в картину. И я – за такую работу.
Когда-то мы говорили со Стэнли Крамером, и кто-то ему сказал: «У вас хорошо работают артисты в картине». Он про нас все прекрасно знал и не очень как-то уважительно к нам относился. «А я их покупаю», – ответил он. «Мои деньги – я их покупаю. Если у меня артист снимается в картине, то он полтора месяца мой. И он уже нигде больше не существует, не растрачивается. А ваши артисты – они и на радио, и носятся, и в двух картинах, и в театре – я удивляюсь, как они у вас вообще играют».
По-видимому, Олег Иванович просто для себя интуитивно сам определил эту позицию, вот такую систему работы: однолюб. Вот, сегодня я здесь. Сегодня я – Лермонтов. И все уже. Это, наверное, правильно.
В группе к нему относились влюбленно. Он всегда был любим всеми окружающими, хотя ничего для этого не делал. Не заискивал, не рассказывал анекдотов, не потешал какими-то имитациями и пародиями. Он никогда не хлопотал. Ни в жизни, ни на площадке, ни на сцене. В нем была какая-то внутренняя своя свобода. Иногда до… Я думаю, что от этого у него и всякие жизненные трудности были, потому что в своей стихии он был абсолютно контактен и мил, а чуть-чуть стихия становилась чужеродной, как ему становилось плохо.
Виделись ли потом? К сожалению, очень мало. К сожалению. Никто не ожидал… Всегда думаешь, что впереди еще что-то произойдет и мы еще повидаемся, поработаем, сыграем, а потом выясняется, что все… припоздал… Причем, молодой же человек – Олег. Я ведь старше его на 26 лет. Представляете, какая разница – целое поколение. Он вполне мог бы быть моим сыном. Всегда думаешь, что что-то впереди, а выясняется, что все потеряно. Мы ходили в театр «Современник», смотрели «Вкус черешни». Потом общались, разговаривали и смеялись чему-то. Иногда выпивали, хотя бывали такие моменты, что не надо ему было в этом способствовать.
В общем, так, обыкновенное знакомство. Теплота осталась. Но нет, встретиться больше не довелось. Общаемся ведь только по делу, и то если уж очень надо… Соседи-то не всегда видятся. С родным братом можно не видеться подолгу. Какая-то жизнь суматошная, дурацкая. Было ощущение, что, если позовешь, пригласишь, то он придет, потому что оставалась какая-то нежность. Думаю, что взаимная.
Я не припоминаю ничего осложняющего. При всем при том, что однажды им были поставлены какие-то параметры. Не то чтобы он что-то декларировал – упаси Бог. Отношения были такие: тут – мальчик, а тут – режиссер. Допустим, молодой, но драматург, сочинитель. И в театре мои пьесы шли…
На полном уважении, доверие – на доверие. Самое главное, чтобы актер тебе верил. Было доверие. Он понимал, что я ему помогаю, что у меня никаких других радостей и интересов здесь нет. Ощущал это. Мы создавали нужную атмосферу на съемках, никогда не заставляли лишку ждать. Он был всегда в чем-то своем свободен.
Меня удивляла в нем какая-то взрывчатость. Мы определяем артиста по степени богатства и неожиданности приспособлений (по системе Станиславского). Ты ему говоришь: что, зачем, для чего, а уж как это у него получается – свое личное. Хотя, такой режиссер-зануда, который сам написал, мог настаивать и «как». Но здесь Олег был свободен – и неожиданный, и очень взрывчатый. В нем, таком вяловатом, несобранном, немножко расслабленном, накапливался где-то взрыв, вулкан. И тогда он начинал безрассудно биться в какой-то истерике. В нем вдруг чувствовался невероятный заряд.
Причем у актеров есть еще и «вольтаж». Как собачка – потреплет-потреплет подушку, а потом на тебя кидается – ей надо себя довести до состояния изверга. А по сути своей, когда человек что-то накапливал, тогда ему было легко играть. Вот взрыв: «Когда тебя бьют сапогом в живот!» И тогда я пугался. Думал: не чересчур ли? Кино, микрофон, камера. Не будет ли чересчур? Причем еще на монтажном столе мне казалось – черт его знает! Может, немножко подмикшировать? Как-то режет… Но потом выяснилось – он прав. Прав. Прав! Потому что жизнь такова. Здесь вкус его был безукоризнен, хотя иногда он был способен на резкости, на какие-то скрипы. А иногда нужен скрип. Вот это в нем было. Крик, вопль. Это было у Олега незаемно. Абсолютно органично. Это было его позицией. Вот здесь он высказывался лично. Это уже был не его герой, написанный мной мальчик Борис Дуленко, который попал в эту безумную историю.
Олег был отличным кинематографическим артистом. То есть в том смысле, что, как у гитары, колки у него держали струны сами по себе, он был готов к съемке. В эпизоде. В любом куске.
В чем секрет успеха картины? Я не очень балованный в этом смысле. Но вот первая моя картина «Человек родился» или более поздняя «Обвиняются в убийстве» и «Человек, который сомневается», имевшие такой резонанс публики, всегда затрагивали какую-то очень существенную жилку. Элементарная вещь – широкой публике наплевать на переживания человека в форме прокуратуры. А судьба Дуленко волнует многих. Ведь это то, что может случиться с каждым. Это всех захватило.
Олег Даль… Главное ощущение от него – свободы. Свободы. Раскованности. Той самой внутренней, драгоценнейшей свободы, которая была отброшена напрочь нашим обществом, интеллигенцией, которая вытравлялась в течение десятков и десятков лет. Из нашего общества и нашей системы. Это в крови… было в нем заложено. У нас, когда с этим встречаешься, то это, в общем, поражает. Это – запоминающееся.
Вот насчет чувства свободы. Приезжал к нам такой сценарист – Шарль Спаак. Он – автор половины картин французского авангарда. Все крупнейшие режиссеры французского авангарда работали с ним, по его сценариям поставлены самые знаменитые картины тех лет. Мы общались где-то в ограниченном кругу. Этот Шарль Спаак из богатой семьи. Мы спросили его, не брат ли он того Спаака из Объединенных Наций – бельгийского министра. Он ответил: «Нет, это тот Спаак – мой брат». То есть он старше и главнее. Подумаешь, в какой-то там ООН… И он нас поразил ощущением свободы. Это был человек, который за свою жизнь никого ни о чем не просил, не подавал никаких заявлений, ни от кого не зависел, поскольку он из богатой самостоятельной семьи. И никого не давил. У него не было надобности кого-то вытеснять, кого-то придушить. Вот такой бельгиец, который прожил всю жизнь во Франции. Он зарабатывал деньги на кинематографе, но это не был его бюджет. Он с таким же успехом мог бы без них обойтись. Он работал, общался…
Вот что-то от этого было в мальчике-Дале. Сызмальства. Какое-то ощущение свободы. Вот, сейчас я здесь, а сейчас – уже не так, ребята, ну и до свиданьица… И не надо.
Быть самим собой. Живым и только. Живым и только – до конца. Ведь это тоже от творчества. Что-то человек в себе бережет. Какой-то огонек. Лампадку. И он несет, чтобы не расплескать. Оно дорогого стоит. Это очень важно. Вот это и есть поэт. Не обязательно сочинитель, но ходит с ободранной кожей.
Это ужасно, что он так нерасчетливо рано умер. У Зощенко в книге «Возвращенная молодость» есть об этом – почему поэты рано умирают. Потому что срабатывают, прогорают жизненные ресурсы. И они ищут пули Мартынова или Дантеса, или от чахотки… или еще чего-нибудь. Он – молодой поэт, по нашим временам. До сорока лет не дотянул. Конечно, он был рассчитан еще на тридцать лет вполне молодой, бурной деятельности. Активнейшей. Писал бы и сочинял, и ставил, и играл… Он был бы очень нужен и необходим в нашем «хозяйстве».
Олег был очень обыкновенный. Чрезвычайно. Прелесть его была в том, что он был абсолютно обыкновеннейший. Чуть-чуть более резкий и колючий, чем наиобыкновеннейший. Вот в чем прелесть.
Ничего от артиста. Ничего. Ни внешне, ни в одежде. Есть такие – идет: да, я – артист. Вот выйти в театре, сыграв рольку. Потом пройтись – автографы, самодовольство.
Может, раньше они были все такие – бритые, чистые, хорошо одетые, холеные… Вот просто ничего от этого. Ничего. Наоборот, такая… «шпана». И вместе с тем у меня было какое-то ощущение нежности, как к сыну, тем более что я сочинил эту роль. Я это написал, я это придумал, я это ставлю. Я его «вывожу за дрожащую руку» на площадку. У меня к нему нежность двойная, тройная.
Плюс еще то, что относилось только к Далю. Это ощущение бережности. Было отношение… Я потом даже проверял, может, потому что он умер… Нет, было ощущение, что он – человек с ободранной кожей, что он нуждается в нежности, в бережности. И он на это откликается сразу. Тогда я это чувствовал, но полностью не понимал.
Незащищенный, уязвимый, исключительно честный, колючий – все есть. Олег Иванович Даль как художник интересен тем, что он чисто поставленный эксперимент. Человек. Такой существовал. Таким запомнился всем – в разные времена.
Москва, 5 декабря 1989 г.
Александр Шпеер
Со стороны прокуратуры
Насколько я помню, до начала съемок картины «Человек, который сомневается» я Олега Даля не знал и увидел его впервые на съемочной площадке, когда он уже появился в работе. Чисто по-человечески впечатление о нем было у меня не очень хорошее, и вот почему. На репетиции одной сцены, сейчас уже не помню, какой именно, речь пошла о паузе. И Олег с таким самоуверенным видом стал раздумчиво говорить: