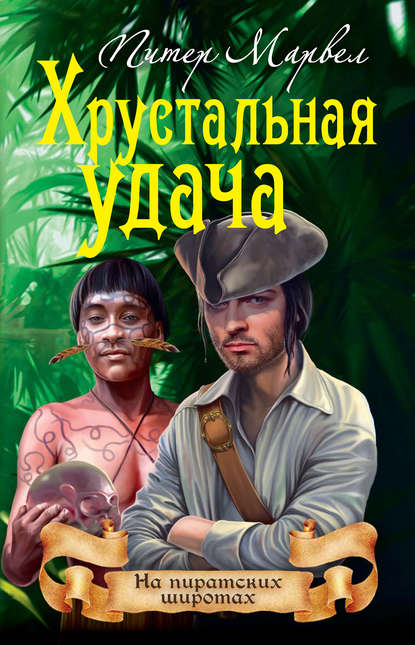Полная версия
В погоне за призраком

Питер Марвел
В погоне за призраком
Что наша жизнь? Игра страстей,Разноголосица понятий.Утроба матери моей —Уборная для перемены платья.За ней – подмостки. Лишь одинЖестокосердый зритель – НебоСледит за сменою картин,Ошибок не прощая слепо.И вот уж холод гробовойНас прячет от тепла и света,Как занавес упал, так над землейЗаходит солнце. Песня спета.Жить – значит пьесу лишь играть,К обители бредя последней,Всерьёз нам только умирать,И это – шутки драгоценней.Сэр Уолтер Рэли, капитан гвардии Ее Величества королевы Англии Елизаветы I Пер. Д. БолотинойЖану де Габриэлю, хозяину заведения «Таверна Питера Питта», вдохновившему меня своим ромом и побасенками на создание этой книги, посвящается.
Питер МарвелВсе совпадения не случайны.
Питер МарвелСмеяться разрешается. Вы можете смеяться. Но если вы любите плакать – то плачьте. Потому что если вы не будете плакать и смеяться, то плакали ваши денежки…
Из какой-то пьесыГлава 1
Начало пути
Плимут. Атлантический океан
Уильям Харт никогда не представлял себе, что его может так тошнить.
Уже полдня он болтался на баке по правому борту, перегнувшись через отполированный руками планшир, и перед глазами его то ухало вниз, то вздымалось вверх маслянистое тело океана. Солнечные блики яростно плясали в слезящихся глазах, в висках ломило от нестерпимой боли, словно некий сапожник с остервенением тыкал туда тупым шилом.
Самым отвратительным в его положении было то, что он, всю свою восемнадцатилетнюю жизнь мечтавший о море, совершенно не мог представить себе морской качки. А уж начало путешествия виделось ему совсем по-иному.
– Ну, пока все нутро не вывернет, не успокоится, – услышал он сказанную тоном знатока фразу и понял, что она относится к нему.
Харт хотел повернуть голову и достойно ответить, но новый мучительный приступ скрутил его невыносимой резью, так что он только успел краем глаза отметить коренастую фигуру, увенчанную похожей на котел головой, повязанной красным платком.
– Только зеленые юнцы, в первый раз ступившие на палубу, блюют с наветренной стороны, – отозвался кто-то рядом, и Харт покраснел от унижения, узнав надтреснутое карканье своего капитана.
Ему очень хотелось сказать в ответ что-нибудь из разряда «не вашего ума дело», но вместо этого, настигнутый новыми спазмами, он опять перегнулся через планшир. А когда ему полегчало, оказалось, что он снова остался в одиночестве. Больше всего на свете он желал лечь прямо на палубу, но гордость не позволяла ему пасть так низко в глазах простых матросов. Когда он наконец добрался до своей каюты, схожей размерами с матросским сундуком, то обессиленно повалился на жесткую крышку рундука[1], покрытую набитым соломой тюфяком. Поскольку закрыть глаза было решительно невозможно из-за приступов головокружения, он повернулся носом к дощатой переборке и, зацепившись взглядом за сучок, предался воспоминаниям…
* * *– Согласитесь, этот парусник просто великолепен – настоящий красавец! Глядя на него, думаешь о совершенстве, которого способно достичь мастерство человека, не так ли? Глядя на изящные линии бортов, на великолепно украшенную корму, понимаешь, что рукой плотника водила десница Господня… Вы согласны со мной, сэр?
Этот короткий панегирик с большим воодушевлением был произнесен на торговой пристани Плимута господином не первой молодости, но чрезвычайно живым и подвижным для своих лет, одетым в костюм из черного голландского сукна, покрой которого выдавал в нем особу влиятельную, хотя и не благородных кровей. Обращался он при этом к человеку чрезвычайно рослому, завидного телосложения и, несомненно, дворянину, на что указывала большая отделанная серебром шпага, висевшая на перевязи у бедра этого краснолицего, с военной выправкой, мужчины.
Но спутник пожилого господина, похоже, имел свое, особое, мнение о задранной, как утиная гузка, корме и заваленных внутрь бортах, а также о чересчур узкой для стодвадцатифутового корабля палубе.
– Мне кажется, – просипел он, трубно сморкаясь и отнимая от лица платок со следами табака, – мастера скорее вдохновил размер пошлин, взимаемых зундской таможней. Разве этот корабль не ходил на север? Он не выглядит жеребцом-шестилеткой перед скачками в Ньюмаркете. Я бы даже сказал, сударь, что Кингс Плэйт[2] этот флейт точно бы не взял, если можно так выразиться.
Пожилой господин метнул острый, как дротик, взгляд на своего собеседника и тут же прикрыл глаза тяжелыми веками, оставив замечание капитана без ответа.
Капитан[3], а дворянин с военной выправкой был именно капитаном, неторопливо засунул платок в карман темно-синего, украшенного золотым галуном кафтана и с неуловимой насмешкой посмотрел сверху вниз на своего нанимателя:
– Господин Абрабанель, вы зафрахтовали судно для своих целей, не поставив меня в известность заранее, но поскольку интересы Британской короны на данный момент совпадают с вашими, а я должен вести эту лохань и в ней вас через Атлантику, я могу лишь согласиться со всем тем, что вы мне скажете.
Сэр Джон Ивлин, а именно так звали капитана, был подданным Великой Британии. В последнюю войну он весьма успешно сражался против тех самых голландцев, на одного из которых теперь по воле случая столь же благополучно работал. Более насчет достоинств и недостатков флейта под названием «Голова Медузы» капитан и его патрон не распространялись, так как капитан умел молчать и не обсуждать приказы, что немало способствует продвижению по служебной лестнице. А потом, Абрабанель платил такие деньги сверху, что они были куда весомее любого мнения.
При этом Джон Ивлин отнюдь не собирался во всем соглашаться с этим парвеню[4] – он был все-таки истым джентльменом: упрямым, педантичным и очень себе на уме.
Как уже было сказано, флейт имел обычную для этих кораблей длину около ста двадцати футов, ширину около двадцати футов и осадку около двенадцати футов. Созданный как торговое судно, он мог нести до 350–400 тонн груза, а на пушечной палубе и носу корабля недавно установили двадцать восьмифунтовых пушек. Экипаж судна, исключая пассажиров, благодаря усовершенствованиям рангоута и парусов составлял всего шестьдесят человек. Что бы там ни говорил капитан, «Голова Медузы» отличалась неплохими мореходными качествами, делала до девяти узлов и была оборудована штурвалом – новшеством, заменившим румпель и значительно облегчавшим управление рулем.
Что касается ее парусного вооружения, то оно состояло из трех мачт, из которых фок– и грот-мачта несли по три ряда прямых парусов, а бизаньмачта – латинский парус и выше его крюйсель, а на бушприте кроме блинда был установлен еще и бом-блинд.
Сэр Джон Ивлин, насмехаясь над начальником кампании, конечно же, знал, что и непропорционально длинный по отношению к ширине корпус, и увеличение мачт за счет стеньг только повышали ходкость судна и упрощали его ремонт, но уж больно хотелось ему прищучить этого купчишку из Сити.
Давид Малатеста Абрабанель, а так звали хозяина флейта, также неуловимо усмехнулся в ответ.
Он прекрасно уловил ту едва заметную волну презрения, которая исходила от британского подданного, дворянина и морского офицера, в сторону ростовщика и ювелира из купеческого сословия. Только его самого собственная родословная нисколько не смущала.
Те времена, когда знатность рода определяла судьбу человека от колыбели до смертного одра, невозвратно уходили в прошлое, и только глупец мог этого не заметить. Гордые аристократы с пышными гербами и раскидистыми генеалогическими кущами могли быть воинами, вельможами, пэрами, джентри[5] и прочая, и прочая, и прочая.
Они могли все, кроме одного: они не были способны составить капитал и приумножить его – умели только тратить. Давид Малатеста Абрабанель на этом поприще мог дать сто очков вперед любому лорду, хоть в Старом, хоть в Новом Свете. Приумножать богатства он умел и любил. Хвала Создателю, Голландские Генеральные штаты, с которыми невзирая на внешнюю политику Англии у некоторых купцов и ювелиров Лондона были более чем тесные отношения, являлись той страной, где люди, чьи отцы и деды блюли шаббат, могли полностью реализовать свои таланты.
Нидерланды уже несколько столетий не чинясь давали приют еврейским общинам, и там они чувствовали себя как дома. Да, это вам не Англия, где любой захудалый сквайр корчит из себя потомка Ричарда Львиное Сердце и джентльмена, даже если в карманах у него пусто, а кишки жалобно бурчат в ожидании жесткой бараньей отбивной. И отец Давида Абрабанеля был ювелиром и ростовщиком, и дед им был, и, кажется, все предки до седьмого колена имели дело с золотом, но зато теперь он, Давид Малатеста Абрабанель, ювелир из Сити и хоть совсем не официальный, но вполне полномочный коадъютор[6] голландской Вест-Индской компании, мог рассчитывать на безусловное уважение не только собратьев по цеху, но также и многих особ, которые получили свои привилегии благодаря происхождению, то есть безотносительно своим способностям и уму.
После того как Нидерланды обрели независимость, многие мараны, или крещеные евреи, из Португалии и Испании присоединились к своим собратьям в Амстердаме и Антверпене, где вернулись к вере своих предков – Талмуду и Торе. Они также продолжали поддерживать и укреплять связи с купечеством Гамбурга, превратившегося в оживленный центр еврейской жизни. Кроме того, некоторые проникли в Данию – между прочим, по приглашению самого короля.
Еще во времена Елизаветы Тюдор к Амстердаму уже намертво приклеилось прозвище «голландского Иерусалима», ставшего не просто крупным центром европейского еврейства, но и своеобразной столицей ювелиров, купцов и ростовщиков. Именно этими видами деятельности еще с эпохи Средневековья ведали евреи.
Кромвель, чей религиозный пыл вошел в поговорки, тем не менее крайне нуждался в средствах, и среди купцов и ювелиров Сити стали появляться представители этого презираемого племени, которые скупали просроченные векселя, открывали неограниченные кредиты, ссужали деньгами знать, организовывали торговые экспедиции в обе Индии. Самое главное, у них были собственные отличные корабли, построенные на голландских верфях – лучших в то время.
Представители английского купечества роптали, но поделать ничего не могли.
Сам Абрабанель перебрался в Англию недавно и временно обосновался у своего дальнего родственника, такого же голландского сефарда[7], в Сити, где многие сыны их племени еще со времен Карла Первого держали ювелирные лавки и торговые конторы. Он принялся давать займы и скупать долговые расписки, особенно интересуясь теми заемщиками, у кого есть связи или владения в Вест-Индских колониях. И наконец он нашел то, что ему было нужно.
Впрочем, те двое англичан, которые сопровождали сейчас Абрабанеля, особенно не стремились подчеркивать свое родовое превосходство и внешне держались достаточно уважительно, что было и немудрено, так как оба они волей случая находились у него в подчинении, хотя и по разным причинам.
Второй англичанин выглядел куда моложе и неопытнее капитана. Был он хорошо сложен, высок и белокур. В умении держать себя и в осанке его с первого взгляда угадывалось врожденное благородство, дополненное воспитанием где-нибудь в Оксфорде или Кембридже.
Одет он был небогато, но с той особой тщательностью, которая свойственна молодости, сознающей свою привлекательность и свое происхождение. Простой, без отделки, кафтан табачного цвета был скорее английского, чем французского, покроя, а шпага, висевшая на не лишенной изящества перевязи, выглядела скорее семейной реликвией, чем боеспособным оружием. Выглядывающий из-под кафтана камзол черной тафты и узкие кюлоты, обтягивающие стройные ноги юноши, еще более подчеркивали изящество его фигуры, придавая облику некоторую меланхоличность, на деле вовсе ему не свойственную. Казалось, он сам это осознает, и, чтобы хоть как-то придать себе воинственности, он глубоко надвинул на лоб черную шляпу с низкой тульей и загнутыми спереди и с боков полями.
Но и из-под шляпы голубые глаза юноши сияли простодушным восторгом и нетерпением. Вот ему-то совершенно искренне нравились и флейт, на котором в скором времени им всем предстояло отправиться в путешествие, и острова, очертания которых он выучил наизусть по картам, хранящимся в университетской библиотеке, и моряки, суетившиеся в доках и на палубах кораблей, и отвратительная вонь протухшей рыбы и полной нечистот воды, и юркие баркасы, ловко шныряющие между громадами судов, и скрип талей, с помощью которых в трюмы опускались или подымались из них грузы. В тюках и ящиках ему грезились сокровища, привезенные из-за океана: золотые украшения, серебряные слитки, жемчуга величиной с кулак, редкие пряности и еще много всего, чего юный Уильям Харт даже и представить себе не мог…
* * *Воспоминания прервал сильный толчок, благодаря которому Харт сначала ткнулся носом в ту самую перегородку, украшенную сучком, а затем шлепнулся прямо на пол. Как называется пол на корабле, Харт не знал, что только усилило его тоску.
Тотчас вслед за падением в каюту, или, вернее, в закуток между каютами, который занимал Харт, постучали, и внутрь вошел Якоб Хансен, которому скорее пристало бы зваться Иаковом. Харт еще в порту поименовал его жидом, и с тех пор внутренняя неприязнь его к старшему клерку[8] и помощнику Абрабанеля только усилилась. На лице Хансена в полной мере отразились все достоинства и недостатки его племени. У него были глубокие черные глаза с поволокой, отливающий синевой мягкий женский подбородок и профиль какого-нибудь Навина, поразившего филистимлян к своему собственному удивлению.
Но в его глубоких глазах, в этом тонком лице, в этих поджатых губах таилось столько хитрости и жизненной силы, что Харту в его присутствии становилось не по себе, как будто он оказался в обществе шулера или фальшивомонетчика. Впрочем, Харт был настолько неискушен в людях, что охотно объяснял свое мнение предвзятостью, свойственной европейцам при общении с этим бездомным народом.
– Хватит валяться, Харт. Иди проветрись на верхнюю палубу. Склянки уже били половину шестого, скоро будет обед.
Харт поднялся с пола и, оправив изрядно помятый камзол, потянулся за своим единственным кафтаном.
– Пожалуй, я попрошу слугу вычистить твою одежду, – Якоб насмешливо оглядел Харта. – Мне кажется, мы с тобой одного роста, так что тебе должно подойти, – он швырнул на койку одежду.
– Что это?
– Скажи спасибо господину Абрабанелю. Ты обедаешь вместе с нами, и ему не хотелось бы пугать мисс Элейну твоими нарядами. Так что приведи себя в порядок – и милости просим к столу.
Харт слышал издевку в тоне Якоба, но предпочел ее не заметить. «Только низким людям доставляет удовольствие смеяться над несчастьем и неловким положением ближних, – подумал Уильям, – вот я бы ни за что не стал потешаться над человеком, попавшим в затруднительные обстоятельства. Это не по-мужски. Когда я получу деньги за службу, я сумею вернуть долг». Но больше всего Уильяма его бедность тяготила в присутствии дочери Абрабанеля. Она ведь совсем не такая, как… И тут фантазия Харта понеслась галопом, словно возмещая вынужденное бездействие во время носовой качки.
* * *Вообще, Уильям Харт был большой мастер давать волю фантазии. Еще будучи совсем ребенком, он жадно ловил рассказы бывалых людей о морских путешествиях, о далеких райских островах, где круглый год лето и где золото валяется прямо под ногами. Эти рассказы будоражили душу Уильяма и звали его в дорогу. И хотя родители прочили ему поприще священнослужителя, поскольку он был третьим сыном в семье, Уильям в мечтах видел себя морским бродягой, отважным искателем приключений.
Богословствование в сельской глуши представлялось ему чем-то вроде пожизненного тюремного заключения.
Последней каплей, переполнившей чашу нетерпения юного мечтателя, было кратковременное появление на его жизненном пути некоего родственника, троюродного дяди, сэра Роберта Гладстона, который с юных лет связал свою судьбу с морем и плавал офицером на многих судах и под многими флагами. Он гостил в усадьбе Хартов на Рождество не более недели, но рассказанного им за это время хватило бы на две жизни. По некоторым намекам можно было догадаться, что ему доводилось ходить и под флагом морского разбойника Моргана, заслужившего, впрочем, офицерский патент у Его королевского Величества. Эта догадка наполняла душу Уильяма сладким ужасом. Но с особенным жаром дядя прославлял почему-то мореплавательские успехи и корабли голландцев. Может быть, поэтому впоследствии Уильям решился остановить свой выбор именно на голландских судах.
Впрочем, связно объяснить свои желания Уильям не смог бы даже самому себе. Им овладела страсть, своего рода лихорадка, подчинившая все его действия и желания единственной цели, и в один прекрасный день, написав батюшке с матушкой трогательное письмо с извинениями и обещанием в скором времени разбогатеть и сделаться знаменитым, Уильям тайно покинул родной дом и с тощим кошельком бесстрашно пустился в первое свое путешествие, оказавшись в итоге в доках Плимута, где так заманчиво пахло морем, дегтем и пряностями.
Несмотря на то что реальная жизнь несколько отличалась от его восторженных фантазий, Уильям даже не успел в них разочароваться. В Плимуте ему повезло повстречаться с милейшим человеком по имени Давид Абрабанель, который принял живейшее участие в судьбе незнакомого ему юноши и был так великодушен, что сразу же взял его на службу, предложив место клерка, приличное жалованье и вояж в британские колонии на Карибах, куда сам Абрабанель отбывал как поверенный Вест-Индской компании.
Нужно ли говорить, что все эти предложения были приняты Уильямом с восторгом и благодарностью? Он опять воспрял духом и предался мечтаниям. Обстоятельства для этого были самые благоприятные. К удивлению Уильяма, его новая должность не накладывала на него пока никаких обязательств, и он был практически совершенно свободен. Целыми днями Уильям слонялся по городу, неизменно оказываясь в порту, где он с замиранием сердца встречал и провожал корабли. Он грезил наяву и представлял самого себя то на капитанском мостике великолепного галеона, то у штурвала грозного фрегата, то, на худой конец, с пистолетом за поясом несущим вахту на шканцах какого-нибудь брига.
Купец на это время как будто забыл о своем работнике. Новые обязанности по-прежнему оставались для Уильяма тайной за семью печатями. Испытывая некоторые угрызения совести, он разыскал Абрабанеля и попытался вызвать того на разговор, но торговец просто отмахнулся от него и предложил юноше развлечься чем-нибудь, ссудив ему на это даже некоторую толику денег. Уильям решил, что Провидение послало ему вместо работодателя настоящего ангела и что о лучшем патроне даже и мечтать невозможно.
По правде говоря, Давид Абрабанель совершенно не заслуживал столь лестной оценки и уж ни в коей мере даже внешне не походил на ангела. Да и как мог быть похож на бестелесного духа коротышка с раздавшейся филейной частью и выдающимся брюшком, коего не могли скрыть никакие ухищрения портного, с лицом, на котором кривым бушпритом торчал хищный нос, и с голосом тихим и вкрадчивым, как шелест ценных бумаг? Только пронзительные глаза, выражение которых ничего не говорило об истинных намерениях их обладателя, выдавали, безо всякого сомнения, незаурядного человека. К своим прочим качествам Абрабанель, оправдывая свою принадлежность к ювелирам, обладал слабостью к драгоценным камням, и его маленькие, аккуратные, почти женские руки были унизаны множеством перстней искусной работы.
Трудно было представить себе такого человека среди бушующей морской стихии, но Абрабанель уже не первый раз отправлялся в Новый Свет – более того, он был облечен при этом высокой миссией не только компанией, но и Британским казначейством, и Уильяму оставалось только восхищаться его деловитостью.
* * *Погрузившись в размышления о своем нанимателе, Харт, тем не менее, успел переодеться и привести в порядок свои волосы. Парик он не носил по причине скудости средств и наличия собственной густой шевелюры.
Притворив дверь в каюту, Харт легко взбежал по узкому трапу на палубу, где размещались каюты капитана, господина Абрабанеля и его дочери.
Когда он вошел в кают-компанию, как раз подали первую перемену: куриный суп с горошком и огурцами и говяжье жаркое с маринадом.
Принеся извинения за опоздание, Харт занял свое место в конце стола, как раз по диагонали от мисс Элейны, которая одарила его ласковым взглядом. Взгляд этот был ловко перехвачен Хансеном и Абрабанелем, не вызвав восторга ни у одного, ни у другого.
Впрочем, мысли представителя Вест-Индской компании витали сейчас в совсем иных сферах, хотя Давид Малатеста Абрабанель отнюдь не был прекраснодушным мечтателем и увидеть в нем ангела мог только самый неискушенный человек. Уильям Харт был как раз из таких, и посему у дальновидного коадъютора имелись на него кое-какие виды. По складу характера тот терпеть не мог сумасбродов, скитающихся по миру в поисках сомнительных приключений. Уильям Харт в его глазах был одним из таких вертопрахов, не заслуживающих ни малейшего снисхождения, и лишь собственные тайные планы заставляли Абрабанеля разыгрывать перед юношей роль щедрого покровителя.
Это было вполне в его духе – лицемерить, изображая чувства, которых не было и в помине. То же самое действо, призванное скрыть истинные намерения коадъютора, он продолжал разыгрывать теперь и перед капитаном.
Джона Ивлина обмануть было труднее, но это и не было обязательным условием – капитану было достаточно сделать вид, будто он обманут: это означало бы, что он принимает правила игры. А правила были не совсем обычные и нуждались в уточнениях, давать которые Абрабанель никому не собирался.
– Заранее прошу прощения за убожество наших обедов. Мы в походных условиях, количество провианта ограничено, посему наше меню не будет отличаться особой изысканностью, к которой, безусловно, все присутствующие привыкли в обычное время, – произнося это, Абарабанель по очереди поглядел на присутствующих, надеясь, что они по достоинству оценили его юмор.
Но удовольствие ему доставила только физиономия Харта, чьи скулы залил бледный румянец, а желваки напряглись. Еще бы! Харт уж точно в своей жизни не ел ничего лучше черничного пудинга, бобового супа и жесткой, как ботфорт мушкетера, баранины.
Элейна в ответ на тираду отца посмотрела на него с грустным упреком.
Хансен рассмеялся, обнажив ряд великолепных зубов, и подлил себе еще из супницы.
Джон Ивлин же сидел за обедом по левую руку от Абрабанеля. Его лицо по обыкновению было угрюмым, и по нему невозможно было разгадать истинное настроение капитана. Но Джон Ивлин, равнодушно поглощая суп, на самом деле думал о том, что напрасно этот пройдоха радуется, воображая себе, будто провел его. Ему, так же как и капитану, понятно, что пускаться на подобной посудине через океан несколько рискованно, особенно с государственной миссией. Но выбор судна компания оставила за собой, и в итоге мы имеем, что имеем.
Джон Ивлин не счел необходимым проявлять упорство в данном случае. Идти через Атлантику на трехмачтовом флейте, оснащенном двумя десятками легких пушек, было, по меньшей мере, неосмотрительно. Правда, сезон ураганов уже кончился и вероятность попасть в бурю была не слишком велика, но вот нарваться на жестокого испанца или на пирата-англичанина, который не обращает внимание на то, что болтается у вас на флагштоке, было вполне реально.
Словно в ответ на его мысли, Абрабанель, отложив ложку и поглядывая то на Харта, то на Ивлина, воскликнул:
– Право, я доволен, очень доволен этим судном. «Голова Медузы» прекрасно идет, ей и носовая качка нипочем. Правда, Харт?
– М-м-да, – ответил Харт, едва проглотив суп. – Мне кажется, она прекрасно держится.
– А что думаете вы, капитан?
– Корабль и в самом деле неплох, сэр, – сдержанно заявил тот, хмуря при этом брови. – Командой я тоже доволен. Даст Бог, доберемся до Барбадоса в срок и без приключений. Но по нынешним временам я бы все-таки предпочел плыть на линейном корабле флота Его Величества. Тогда моя душа была бы перед вами чиста, сэр.
– Не беспокойтесь о своей душе, капитан! – посмеиваясь и потирая руки, Абрабанель сам подлил себе немного вина. – Иногда скромный вид приносит большую выгоду, нежели непобедимая армада. Во всяком случае, внимания он привлекает куда меньше…
– Нет, я решительно уверен, что наше плавание будет благополучным. Страны наши заключили теперь мир, испанцы, кажется, угомонились, и даже ужасный Морган, говорят, перешел на службу к Его Величеству. Чего же нам бояться?
– Не бояться, сэр! – капитан звякнул приборами, приступая к жаркому в маринаде. – Но опасаться на воде необходимо! Только глупцы выходят в море без опаски. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать?