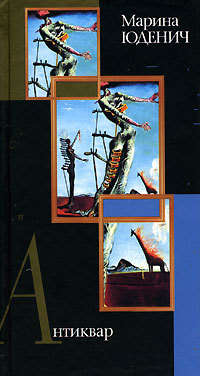Полная версия
Сент-Женевьев-де-Буа
Забавно было, но вполне мог оказаться прав Мага – кто-то из комиссаров оказался настолько фанатичен, что велел уничтожить колодец только за то, что воду почитали святой. Что ж, в те времена вполне могло случиться и такое – фанатиков у красных хватало с избытком. Историю этой страны он знал неплохо. Но что-то мешало ему – в который уже раз удивившись темному хаосу русской души, который интеллигентные иностранцы и сами русские предпочитают красиво называть загадкой – принять примитивную, но, по сути, единственную версию и двигаться дальше.
Что-то – то ли смутная тревога, то ли ускользающая догадка, туманное, невнятное воспоминание о какой-то давней истории или легенде, связанной с колодцем.
Он мучительно напрягал память, призывая на помощь ассоциации: степь, песок, колодец… Что? Все было тщетно.
Он не вспомнил ничего.
И только тень тревоги и расплывчатое предостережение бередили душу. Но этого было недостаточно, чтобы отказаться от затеи, тем более что решение задачи не представлялось ему слишком сложным.
– Кто же разберет, что бродило в их атеистических мозгах, – сказал он, отвечая Маге и оставляя без ответа меркантильную гипотезу Графа. – Понятно, что сами мы этот курган не осилим. Поэтому сделаем так: ты, Граф, сейчас сгоняешь на станцию и привезешь сюда бомжей, они там постоянно околачиваются. Сколько будет, столько и привезешь, лимузин у тебя вместительный. Купи им водки и еды, но пить не давай. И пообещай, что хорошо заплатим. Кто мы, не говори. Скажешь, археологи из Москвы. Понятно? Все, действуй – и быстро. Я до темноты хочу увидеть воду или не увидеть ее.
– Но послушай, Ахмет, они же потом трепаться начнут – какие вы, к черту, археологи, особенно Мага?
– Не начнут, граф Орлов. И потом – это уже не твоя проблема
– Да-а? Побойся Бога, Ахмет, проблема не моя, а джип мой. И вся станция будет видеть, как я набиваю полный салон бомжей, а потом…
– А что потом? Ими что, кто-то очень интересоваться будет? А если и будет… Скажешь, попросили какие-то люди из Москвы, вроде археологи или геологи, ты в этом разбираться не обязан и документы проверять ни у кого не обязан…. Так вот, попросили помочь найти рабочую силу для раскопок. Все. Больше ты никого из них не видел.
– Ой, Ахмет, но это же явная туфта Сейчас все злые, все только про ваших рабов и говорят, меня ж порвут, когда узнают…
– Так это, когда узнают… – вмешался в разговор Мага, доселе хранивший непривычное молчание. Ему было интересно, как справится с заупрямившимся Графом, опасения которого бесспорно имели веские основания, главный человек здесь – Хайям. Он был уверен, что не справится, и, получив тому подтверждение, счел себя вполне удовлетворенным и даже обязанным немедленно вступиться и сломить жалкое сопротивление Графа. – Это когда они еще узнают… А я вот знаю уже сейчас, что ты начинаешь юлить, как паршивая собака, совсем не по-графски. И мне это очень не нравится. Ты понимаешь, что это значит, а, Граф?
– Ой, ну вот только не надо, пугать меня не надо, мы же в одной команде, Ахмет, я же не против, просто нужно легенду, хорошую легенду, чтобы не было сомнений потом…
– Лучшей легенды, чем я предложил, быть просто не может. Ты знаешь, как меня называют друзья, Граф? Не знаешь. Ну, так я тебе скажу по дружбе. Меня называют Хайям. Знаешь, кто такой был Хайям? Он был великий поэт, мыслитель и философ, и никто лучше него не слагал легенды. Поэтому езжай и гордись – твоя легенда от самого Хайяма. И хватит – пока мы с тобой рассуждаем о возвышенной поэзии, презренные бомжи могут расползтись по своим норам – наступает время послеобеденного отдыха, священное, между прочим, время. Или у вас не так?
Граф Орлов искренне хотел бы ответить на вопрос Ахмета: сейчас этот немногословный интеллигент казался ему в сто крат опаснее воинственного Маги, но он понятия не имел, что нужно отвечать. Поэтому, решив не испытывать далее судьбу, повернулся и быстро пошел к своей машине, механически отметив про себя, что внутри салона сейчас настоящая сауна – градусов девяносто, не меньше.
Так и оказалось.
Включив двигатель, он первым делом выставил кондиционер на максимальную отметку и только после этого со злостью вдавил в пол педаль газа.
Подняв столб раскаленной пыли, джип сорвался с места, и скоро только маленькая черная точка, стремительно перемещаясь к горизонту, нарушала покой и безмолвие горячей степи.
– Вызови мне такси!
Он молча поднялся и пошел к телефону в гостиной, хотя на тумбочке у кровати в спальне тоже был аппарат. Встать ему было сейчас необходимо. Встать, сделать несколько шагов, открыть дверь, поднять трубку телефона, услышать человеческий голос. Что-то сказать и быть услышанным. Все это было для него крайне важно. Важно было понять, что он существует. Как и прежде: самостоятельно и независимо от нее.
Причем сделать это следовало немедленно. Иначе… Он сам не знал, что может произойти – вернее, не мог вот так, с ходу этого осознать и сформулировать. Сейчас он вообще соображал очень плохо, и только чувствовал. Но чувства были остры. При том, ничего похожего за все свои сорок лет Дмитрий Поляков не испытывал никогда. Он просто и неожиданно, почти не заметив того поначалу, перестал быть самим собой. Утратил собственное «я», причем не только в переносном смысле. Физическом, материальном – пожалуй – тоже. Остро чувствовал, как странным – немыслимым – образом растворился, растаял, как кубик льда, в любимом scott’s – в чужом, постороннем и неприятном ему человеке. В этой женщине. В ней. В какой момент, как и почему произошла эта дикая метаморфоза, он не понимал. Но она произошла.
Теперь звериный инстинкт самосохранения гнал его прочь, пусть не так далеко, за неплотно прикрытую дверь, подчиняясь – к тому же – приказу этой женщины. Но – прочь.
Ели мог он сейчас, рассуждать здраво, то, наверное, счел бы это глупым, ибо было понятно – потеря себя, привычного, происходит на уровне нематериальном. Так при чем же здесь прикрытая дверь? Рассуждать, однако, Дмитрий был не в состоянии. Его гнал инстинкт, и он, не раздумывая, подчинялся.
Консьерж сообщил, что машины дежурят у входа в отель постоянно, надо просто спуститься в холл. И он обрадовался этому несказанно – важно было как можно скорее оторвать себя от нее.
Он не стал возвращаться в спальню – мысль об этом приводила в ужас и бешенство одновременно. Сидя возле телефона в гостиной, крикнул, что такси ждет, и замер, ожидая ответа. Она могла потребовать сначала ужин, шампанское, еще любви, сказать, что передумала, ехать и остается до утра, да что там до утра – до конца его жизни. Она могла выдумать все что угодно, и он подчинился бы любому ее решению. Ситуация складывалась ирреальной, невозможной, в принципе, но самое дикое заключалось именно в том, что она была, существовала на самом деле, в реальном времени и пространстве. С ним, Дмитрием Поляковым.
И заключалась в следующем.
Эта женщина по-прежнему так же не нравилась ему, как и в первые минуты знакомства на пустынной аллее старого кладбища. Его по-прежнему и даже сильнее, чем прежде, раздражало, пугало, бесило в ней все: яркая необычная внешность, неестественная, манерная речь, резкие перепады настроения. То она вдруг начинала говорить долго и туманно, касаясь тем малопонятных – философия, религия, мистика. То вдруг – приступ безудержного веселья – и тогда острые на грани пошлости и шутки, гримасы и телодвижения. Потом – и практически беспричинно – приступ меланхолии. Она замолкала, не замечая ничего вокруг, глаза наполнялись влагой. Потом – нежданный, непрошеный порыв нежности – холодный фиолет неземных глаз таял, расплавляясь как воск горящей свечи, теплел и мерцал такой бездонной любовью, что хотелось плакать и стоять на коленях. Была еще отвратительная манера держать себя так, будто всякое пустячно желание ее – для окружающих дело решенное и первостепенное.
И еще было ее тело, такое податливое и властное одновременно, что не воспринималось телом собственно человеческим. И даже в минуты, когда он испытывал наслаждение, никогда не изведанное им, сорокалетним здоровым, красивым и богатым мужчиной прежде, даже тогда какая-то малая частица души кричала, что не может дарить такое просто женщина. А если может, то, что же должна сама пройти и пережить ранее?
Но эта была лишь часть проблемы.
Другая заключалась в том, что с первых минут их странного знакомства, он ощутил над собой полную и абсолютную ее власть. А спустя еще некоторое время то самое мучительное чувство полного – без остатка – растворения собственного я в чужом и чуждом внутреннем мире. Так тают снежинки теплой зимой, слетая с небес в лужицы талого снега, – стремительно, покорно и бесследно.
Были еще два обстоятельства, наводящие на него, даже не страх – ужас.
Первым был фактор времени. Пережитое, осознанное, а более – прочувствованное подле нее – в нормальной жизни – должно бы растянуться на месяцы, если – не годы. Но все уложилось сегодня в какие-то несколько часов. Но было странное чувство, почти уверенность в том, что каждый этот час, вопреки законам природы, заключал в себе не минуты – числом, как известно, шестьдесят – а именно годы, возможно – десятки лет. При том, похищая их из будущей, отмеренной ему на этой земле жизни.
Вторым – было удивительное состояние его сознания, понятное – как ни странно – ему совершенно, в малейших деталях и скрытых обычно нюансах, во всей остроте ощущений и переживаний. Там, в лабиринтах души – без преувеличения – поселилось теперь два человека. Он знал это наверняка. Вернее, два его «я», первому из которых она была абсолютно нетерпима и отвратительна. Однако ж, оно, это «я», вдруг оказалось абсолютно безгласно и бессильно. Второе же «я», напротив, было полностью подчинено, растворено в ней, и как бы даже принадлежало уже не ему, Дмитрию Поляковы, а ей, женщине с фиолетовыми глазами. То – было в силе: рассудок, воля, тело – подчинялись ему беспрекословно. Еще более удивительным было то, что второе «я» с первым было полностью согласно, но действовало, тем не менее, с точностью до наоборот. Все это было так сложно и запутанно, что он, прежний никогда не осилил бы подобной коллизии, и даже пытаться не стал, не случись крайней нужды. Теперь же, нужда была и Дмитрий Поляков, как умная собака, все понял, и вроде даже постиг странные, умопомрачительные детали. Но выразить вербально – как подобает человеку, и даже взглядом – как умеют породистые псы, не смог бы.
От него, прошлого осталась теперь лишь отчаянная бешеная ярость, закипавшая рваной, белой пеной, но второе «я» прочно держало ее в узде.
Она не отозвалась никак, и он остался сидеть в неудобной позе, на самом кончике глубокого, мягкого кресла, обитого – как и стены гостиной – нежным золотистым шелком.
Раньше он любил этот небольшой двухкомнатный люкс в бывшем графском замке, и эту золотистую гостиную с огромным зеркалом в ампирной бронзе над белым мраморным камином, удобную дворцовую мебель, с продуманной небрежностью расставленную на дорогом ковре. Теперь было не до интерьерных изысков отеля «De Crillon», он напряженно прислушивался к тому, что происходит в спальне с большой – как и полагается – кроватью и множеством белых зеркальных шкафов вокруг нее.
Он помнил, как помогая ему впервые разместиться в этих апартаментах, служащий отеля интересовался, не кажется ли господину Полякову спальня, с ее обилием зеркал и позолоты, маленьким столиком с двумя легкими креслами, примостившимися в ногах кровати, слишком дамской? Быть может, он хочет посмотреть другой, более строгий номер? Но ему понравился именно этот, хотя недостатком мужественности Дмитрий Поляков никогда не страдал. Никто никогда не находил в нем намека на женственность, однако спальня почему-то понравилась.
Мог ли он знать тогда, сообщая предупредительному служащему, что номером доволен вполне, что наступит время – спустя столько приятных ночей, проведенных в бело-зеркальной спальне – будет напряженно прислушиваться к каждому звуку, долетающему оттуда, и мучительно желать одного: остаться, наконец, одному.
Сейчас ему казалось, что с ее уходом разрушится та странная власть, что за пару часов приобрела над ним эта женщина. Он сможет, наконец, спокойно разобраться во всем – а раньше, что бы ни случалось в жизни, ему всегда удавалось это: спокойно разобраться во всем – лечь спать и заснуть, а утром…
О, утром – он был почти уверен – наваждение рассеется окончательно!
Он будет пить крепкий кофе с горячими круассонами, которые наверняка предложит пассажирам своего утреннего рейса авиакомпания «Air France», с недоумением и легкой досадой вспоминая вчерашнее приключение.
Дверь в спальню отворилась – и он готов был вознести молитву, поскольку желание его, похоже, начало немедленно исполняться.
Она появилась на пороге, аккуратно причесанная, одетая в темный костюм, обливающий стройную худощавую фигуру, словно плотный поток густой, матовой жидкости. На ногах – классические лодочки на очень высоком и очень тонком каблуке. Такая, как если бы ничего не происходило с ними в эти несколько часов, да и не было никаких часов, а только что и – разумеется, ненадолго – прямо с тенистой аллеи старинного кладбища, она заглянула к нему в номер, с тем, чтобы немедленно покинуть его, вероятнее всего – навсегда. И только шляпку теперь держала иначе, чем тогда, – не трепетно, двумя руками прижимая к груди – небрежно, в опущенной левой руке, слегка помахивая, как если бы это была большая легкая сумка.
– Не провожай меня и, пожалуйста, не приближайся, я привела себя в порядок, а ты что-нибудь сомнешь непременно. – Сейчас она пребывала в веселом, игривом настроении, но не кокетничала вовсе, а действительно не хотела его прикосновений – его уже не было рядом: она так настроилась и не желала ничего другого.
Он неуклюже, торопливо поднялся из своего кресла и, остановленный ее репликой, топтался на месте, ощущая себя совершенно неловко оттого, что был одет в халат, довольно короткий для него. Босые ноги казались ему неприлично голыми, перед ней – чужой и изысканной.
– Я ведь, кажется, говорил тебе, что собирался лететь завтра утром, но если ты хочешь… – будь под рукой пистолет, первое «я», наверное, героическим усилием прорвалось наружу и приказало ему застрелиться или застрелить ее, что, с точки зрения второго «я», было почти одно и то же. Но первое было упрятано надежно и прочно, второе же продолжало жалко мямлить, пытаясь изобразить при этом легкую небрежность, – мы могли бы провести еще несколько дней здесь… Или поедем куда-нибудь? Может, в Ниццу? Или Довиль? В Нормандии сейчас прилично – тепло и не жарко, по-моему.
– Завтра? Ну завтра ведь и будет завтра, – она снова кокетливо помахала шляпкой на уровне худой щиколотки, – завтра – это еще очень не скоро. Хорошо, я позвоню тебе завтра, и тогда поговорим. Вообще, не люблю Ниццу, особенно летом. А Довиль?.. Я подумаю. Завтра. А теперь отвори мне дверь, но не смей меня трогать. Помнишь, что я сказала, да? Ну, прощай.
– Но ведь уже завтра, – он послушно сделал шаг в сторону двери и даже взялся рукой за витую тяжелую ручку, но остановился – осталось несколько часов – и рассветет. Самолет у меня утром, это, конечно, не проблема, но…
– Отвори мне дверь, – повторила она более монотонно. И он понял, что игривое настроение сейчас сменит холодная тупая апатия.
– Конечно, иди, если хочешь, но, по крайней мере, дай мне знать до отлета или оставь какие-нибудь свои координаты, чтобы я мог…
– Какое смешное слово – координаты, – медленно произнесла она без тени улыбки и повторила по слогам: – Ко-ор-ди-на-ты. Я позвоню тебе завтра, прощай.
Она прошла мимо, так невесомо, что он не ощутил даже легкого колебания воздуха на лице, хотя она едва не коснулась его, ступая за порог, и только запах ее духов едва уловил и, вдохнув глубоко-глубоко, удержал на долю секунды – терпкий запах мокрой листвы какого-то экзотического растения. «Цветы у него должны быть огромными и непременно темно-фиолетовыми» – мелькнула в голове странная и неожиданная мысль и, почти не замеченная, растворилась. Некоторое время он постоял у распахнутой двери, а потом медленно затворил ее и, словно не узнавая привычных предметов, с некоторым удивлением оглядел опустевшую наконец гостиную.
Похоже, этой ночью, вернее в последние предрассветные часы первой ночи нового одна тысяча девятьсот семнадцатого года, Ирэн фон Паллен приходила в себя дважды.
Напиток, предложенный Рысевым, оказал на нее действие немедленное и удивительное: она стремительно провалилась в забытье, которое не было сном, потому что спала она всегда очень чутко, просыпаясь от малейшего шума, и даже простого колебания воздуха, вызванного, легко порхнувшей у раскрытого окна занавеской. В этом сне она была отгороженной от внешнего мира, заполненного беспрестанным шумом: громкими криками и смехом, звоном посуды, музыкой и шумом падающих предметов – такой плотной и непроницаемой пеленой забвения, что, казалось, он перестал существовать для нее вовсе. Но и внутренний ее мир, оживающий более обычного как раз в часы тревожного сна, теперь был безмолвен и темен, скован вязкой паутиной странного зелья. Она не видела снов, душа не отозвалась на обычный призыв, не воспарила над миром, как случалось прежде, особенно – если забывалась под утро после долгих часов лихорадочного бодрствования в кокаиновом горячечном бреду.
Очнувшись первый раз, словно вынырнув из холодных глубин темного омута, Ирэн не сразу пришла в себя и, некоторое время лежала в прохладной тьме, постепенно осваивая собственное тело и, возвращая душу.
Она обнаружила себя совершенно обнаженной, лежащей на широкой прохладной постели, убранной мягким, струящимся шелком. Комната скрывалась во тьме, не было даже ночника у кровати, но почему-то она казалось, что она велика, не в пример той предыдущей, где приняла из рук Рысева древний кубок со странным питьем. Где-то здесь, к тому же, непременно было открыто окно, оттого воздух был свеж и наполнен сырой прохладой петербургской ночи.
Ирэн осторожно пошевелила руками, ногами, отчего прохладные шелка тут же пришли в движение, легко скользя, обласкали кожу. Тело подчинилось легко, но – в то же время – казалось каким-то чужим, пустым, остывшим и безумно усталым. Словно кто-то неведомый, скрыто владел им в то время, пока была в забытьи, пользовал нещадно по своему тайному усмотрению, и возвратил лишь теперь, перед самым пробуждением, надеясь, что она ничего не заметит.
«Он овладел мною конечно, но зачем же так?» – вяло, без возмущения и даже без особой обиды подумала Ирэн. Она была скорее раздосадована, потому что к близости Рысевым хотела, ждала от нее чего-то необычного и волнующего, вроде того, что было в словах, обращенных к ней накануне. Но и досада была какой-то вялой, апатичной, тусклой, как прочие ощущения и желания. Она пыталась встать, отыскать какой-нибудь светильник, чтобы оглядеться, но почему-то не сделала этого. Потом – хотела поразмыслить о случившемся, что-то вспомнить – но и на это не нашла сил. Легкая дымка, которой – как будто – все еще было подернуто ее сознание, сгустилась, и снова, незаметно для себя, погрузилась, в глубокое вязкое забытье.
На этот раз, однако, оно не было таким же темным и безмолвным, как поначалу. Теперь ей снился сон – возможно, впрочем, и не сон вовсе, а то, чему немой свидетельницей стала душа, получившая – как прежде – временную свободу.
Виделась битва, в которой сошлись сотни разгоряченных всадников, одетых в странные одежды, окрашенные в пурпурный цвет – у одних воинов и кипенно-белые – у других. Сражение шло в долине, пролегающей между двумя полукружьями горных хребтов, зеленых и голубых у основания, с вершинами, увенчанными сияющими снежными покровами. Солнце уже клонилось к закату, лучи наполненные ярким багрянцем, насквозь пронизывали долину, отчего белые одежды всадников казались алыми, а красные, наливаясь пурпуром, становились почти черными, как редкие темные рубины. Такие – видела Ирэн в старинной диадеме, хранившейся в доме фон Палленов, вместе с другими бесценными украшениями многие годы, возможно – века. Из поколения в поколение драгоценности передавались в семье по женской линии. Теперь – ожидали Ирэн в тяжелой серебряной шкатулке-ларце, упрятанной в тайнике в маменькиной спальне.
Сражением, между тем, продолжалось.
Слышался звон оружия, боевые призывы воинов, конское ржание, крики и стоны умирающих.
Их было уже великое множество, поверженных на землю, залитых кровью, сочащейся из ран. И невозможно было понять, какой армии воин убит или ранен – одежда была одинаково окрашена кровью.
Живые – однако – не оставляли ратного дела: битва продолжалась с неиссякаемой яростью. Лица воинов казались безумными, искаженные гримасой ненависти и смертельного азарта.
Во сне – Ирэн тоже была среди них, облаченная в белое, густо забрызганное кровью – и оттого почти алое платье – верхом на горячей сильной лошади с мечом в одной руке и легким золотым щитом – в другой. Волосы ее были распущены, украшала – почему-то – той самой диадемой из огромных темных рубинов, похожей – сейчас – корону. Впрочем, теперь она и была короной, потому что Ирэн в этой битве была не просто отважной воительницей, валькирией, но – королевой, которая – именно – вела за собой белое воинство.
Второй раз Ирэн пробудилась стремительно, вдруг, будто чья-то могучая рука властно выдернула ее из самого пекла кровавой битвы, вынула меч из натруженных рук, сорвала одежды, пропитанные кровью.
Она резко села на кровати, отшвырнув одеяло ногами, напряженными, сведенными судорогой, словно все еще нужно было держаться в седле, пробиваясь сквозь пламя битвы.
В комнате стояла – вроде бы – гулкая тишина, но в голове звенел, булат клинков, гремел шум сражения.
Некоторое время она сидела неподвижно, тяжело дыша, готовая в любую минуту снова вступить в борьбу. Но, ощутив вполне прохладный покой опочивальни, успокоилась и, постепенно пришла в себя. Поняла – наконец – что это был лишь сон. Выскользнула из душных объятий кошмара.
Однако что-то все равно было не так. Покой и тишина казались обманчивыми и пугающими – словно битва лишь отступила, затаилась, во мраке, принимает в эти минуты какие-то другие, неведомые пока формы, но продолжается. И не Ирэн фон Паллен проводит первую ночь наступившего года в случайной постели случайно знаменитого поэта – все та же валькирия, королева могучего воинства, затаясь до поры до ждет своего часа. Своего подвига? Какого? Думать об этом сейчас было нельзя, потому что нельзя было отвлекаться от того, что происходило вокруг – битва могла в любой момент возобновиться.
Странное состояние Ирэн, было для нее – теме не менее – совершенно реальным.
Даже тонкие руки во тьме, осторожно подняла к голове, чтобы поправить рубиновую корону, но диадемы не было. Ирэн, впрочем, нисколько не удивилась и уж тем более не испугалась утрате, ибо вдруг поняла: сейчас так и надо. Наступит время, пробьет час – корона увенчает ее царственную голову по праву.
Так все и будет, но несколько позже.
Ирэн она напряженно напряжено прислушалась, потому что различила вдруг какие-то голоса поблизости. Бесшумно выскользнула из постели. Ловко, как грациозное хищное животное, крадучись в кромешной тьме, двинулась на звук этих голосов, минуя препятствия на пути и не производя ни малейшего шума. Вскоре оказалась она у холодных, тяжелых больших дверей, ведущих в соседнюю комнату, и, приникнув к ним, обратилась в слух.
Говорили трое.
Одного говорившего узнала сразу – это был Стива фон Паллена. Он как раз говорил теперь, и голос был не пьян, но звучал необычно. Стива говорил странно и сбивчиво оттого, что чем-то был сильно напуган.
– Нет, это совершенно невозможно, и вовсе не оттого, что мне жаль ее или я испытываю какие-то сентиментальные чувства. Эта женщина давно чужда мне и безмерно далека. Да, собственно, никогда и не было иначе. Это, знаете ли, физиологическое родство, людьми высшего порядка никогда и не принимается всерьез. Но… Но это невозможно, именно теперь невозможно… И опасно, поверьте мне, опасно не только для меня, но и для всех нас…
– Да отчего же, друг мой?
Он и второй голос узнала сразу, без колебаний.
Глубокий и низкий, он принадлежал к той редкой породе голосов, уже самим тембром своим задевавших какие-то неведомые глубоко скрытые душевные струны, заставляя их звучать, наполняя слушателя небъяснимым трепетом: восторгом или ужасом, в зависимости от того, что именно говорил голос. Это был голос Ворона – которого она про себя и в лицо осмелилась, было, называть небрежно Рысевым. Но только до поры. Теперь, едва он заговорил, Ирэн испытала снова сильнейшее душевное волнение, сродни тому, какое испытала сначала.
– Отчего же вы думаете именно так, когда все обстоит как раз наоборот, – продолжал он между тем мягко, но властно. – Вы замечательно сформулировали это. Про физиологическое родство, право, лучше и не скажешь, и, стало быть, вас ничто не должно остановить в вашем решении. Что же до опасности, то она, конечно, есть, но именно сегодня сведена к нулю. Я никогда не ошибаюсь в своих расчетах. Действовать нужно теперь же. Немедленно. И довольно об этом. Споры нам сейчас ни к чему. Время торопит, скоро рассвет. – Бархат отдернули, как тяжелую мягкая портьеру, за ней оказалась кованая дверь, и, ударившись в нее, голос наполнился металлом.