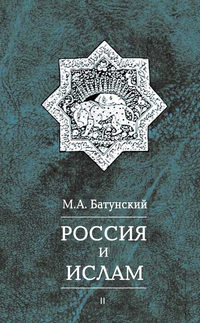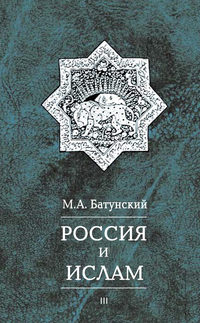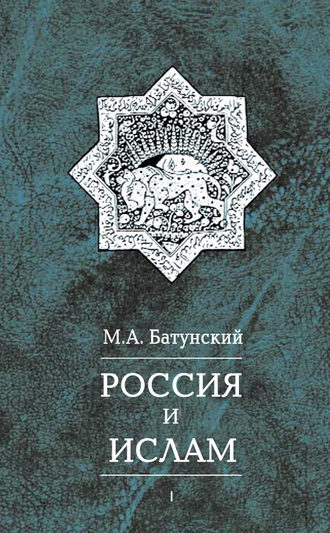
Полная версия
Россия и ислам. Том 1
С точки зрения исламоведения Иван III на некоторое время снял проблему, сумев наладить добрые отношения с Османской империей. С точки зрения русской судьбы проблема была еще только поставлена.
– Отныне эволюция русского социума становилась мозаичной, ибо каждый входящий в нее этноконфессиональный коллектив (или система таковых) обретал собственный темп и скорость развития (или, напротив, стагнации), – ситуация, в конце XV в. оказавшаяся в целом благоприятной для централизующейся монархии, с ее совершенствующимися механизмами регуляции внутренней жизни и осложнившимися программами поведения на международной арене.
С каковым багажом Русь Московская и отправляется на следующий этап – к Российской империи.
Диалог 3
От царства к империи
Переход государства и народа из одного состояния в другое может быть осознан двояко: либо как последовательное накопление черт, оформляемое впоследствии «скачком» в новое качество, либо как «скачок», открывающий простор для накопления новых черт…
– Я интерпретировал бы падение золотоордынского владычества на Руси, а вслед за тем завоевание Казани и Астрахани как «перерыв постоянности», означающий переход к новому качеству, к новому структурному уровню, на котором уже значительную роль начинает играть момент дискретности.
…То есть дробления, членения… А это не противоречит тому, что общество должно было скреплять себя обручем единой доктрины? Или это двусторонний процесс: членение реальности и одновременно скрепление ее доктриной? Чтобы отталкиваться и прыгать, нужно иметь твердую опору…
– Любой «рывок вперед» тогдашнего русского общества (общества дробного, изобилующего бесчисленными конфликтами) вел, с одной стороны, к вытеснению потаенных комплексов за рамки своего замкнутого коллектива на какую-либо из одиозных иноверческих ассоциаций, а с другой – к прагматическому взаимодействию с Чужаком, к отходу от связанных с ним традиционных острых и броских антитез.
А это, в свою очередь, предполагает…
– А это, в свою очередь, предполагает альтернативность восприятия: один и тот же объект (все те же «татары-басурмане») может попеременно вызывать у воспринимающего по крайней мере два несовместимых между собой образа.
Опять удвоение, двоящийся контур, двойной стандарт, как сказали бы теперь, в XXI веке.
Но вернемся в XV. Мир во всей своей пестроте распахивается перед русскими, вырвавшимися из татаро-монгольского «полона». Начинается изумленное освоение мира – то самое разбегание вширь, которое классик социалистического реализма назвал в свой час «Дорогой на океан», а лидер антисоветской публицистики – экспансионизмом, неотделимым, впрочем, от такой чисто русской черты, как любопытство к тому, что за горизонтом… Кажется, Афанасий Никитин признан провозвестником пробуждения в русском человеке интереса к «неслыханному» и «невиданному». Как это должно было сказаться на состоянии народа?
– Встречи с непривычными в целом для русской культуры верованиями могли бы привести к скачкообразной смене мировоззренческих, культурологических и политологических парадигм и, в частности, резко увеличить набор альтернативных курсов по отношению к различным вариантам мусульманства.
Почему этого не произошло? Ведь налицо же объективные предпосылки для «крена в сторону исламских доменов», когда Московия выходит на берега Волги. И, как признает Марк Батунский, все сильнее ощущается у московитов потребность в «медиумических», опосредствующих культурных формах, которые, обладая чертами как православной, так и мусульманской цивилизаций, помогали бы наладить между ними «логику сосуществования», а не только «разрушительной конфронтации».
Да, потребность в таких формах была. Но была и гигантская разлаженность пространств, на которых свершались события. Формы хорошо отрабатываются в лабораториях духа. В свой час такой лабораторный опыт поставят евразийцы и предложат России гибрид, в котором, по выражению Марка, западное и восточное начала «присутствуют друг в друге». Да и тогда не приживется. А за полтысячи лет до этого? Надо же учитывать, на каком поле шла тогда пахота.
– Нельзя забывать о том, что и в тогдашней Руси динамика культуры была тесно связана с «избыточностью культурного поля», т. е. с многомерностью и поливариантностью культурных значений. Следовательно, эта культура включила в себя не только явные, но и латентные, не только функционально полезные, но и дисфункциональные системы, а также структуры, различающиеся временными параметрами своего действия.
Одно словцо в этой характеристике кажется мне особенно многообещающим. «Избыточность». Откуда она? Кто ее измерял? Кто примирит ее с тысячелетним стоном народа о нищете, с голодными бунтами и бессмысленной их беспощадностью?
А может, «русский бунт» как раз и есть выброс избыточной энергии? И сколь бы тяжелыми ни были пути культуры – «избыточность поля» доказывается уже хотя бы результатом, «урожаем», тем фактом, что русская культура стала мощнейшим участником общечеловеческого процесса? Значит, был избыток сил и у обездоленных мужиков, которые бежали от помещичьего гнета и шли в казачьи дружины, и у тех «басурман», которые веками кочевали по залежам «природных кладовых», а потом, окстясь и перейдя в русские помещики, клали начало великим фамилиям в «поле» русской культуры. Интересно все-таки понять: эти предки Кантемира, Карамзина, Тургенева и Булгакова попадали под гнет самодержавия? Или они выходили на простор мировой культуры? Что тут скажешь насчет творческой свободы, необходимой в культурном поле?
– Русской, как и любой другой, культуре оказались присущими такие «степени свободы», которые превышали необходимый для ее функционирования в социальной системе уровень. Это «сверхнеобходимое» многообразие потенций и образовывало тот резерв, который обеспечивал ее продвижение вперед, и те ресурсы, которые использовались в ходе развертывания культурно-исторических судеб России.
И если бы «линия Афанасия Никитина» победила безраздельно…
– Будь она продолжена далее – т. е. если бы ей удалось снять и следующую оппозицию – Монотеизм //Немонотеизм, – соответственно ушел бы с авансцены образ экумены, не имеющей завершенной структуры, не являющейся иерархически упорядоченной и качественно дифференцированной в онтологическом плане. Она, напротив, предстала бы как открытая, неопределенная и бесконечная, в которой все религиозно-культурные субстраты принадлежали к одному и тому же уровню реальности, в частности, вследствие этого был бы минимизирован и уровень психологической взаимонапряженности.
Но этого не происходит, так? Куда же девается в этом случае «избыточность культурного поля»?
– «Избыточные пласты» возможных, но по тем или иным причинам не реализованных, культурных смыслов отодвигаются на периферию. Однако, в силу диалогичности культуры как таковой, существования в ней не только процессов взаимодействия и взаимообогащения, но и диалога-конфликта различных противоборствующих сил, эти латентные культурные смыслы, или культурные ценности, в определенный момент в состоянии актуализироваться и даже стать фундаментально значимыми для нового типа культуры.
…И этот новый тип культуры реализуется в будущем. Разумеется, не «чистым скачком», но и не «тихим накоплением» ценностей, а – сложными галсами меж той и этой «определенностью». Особенно если иметь в виду историю России…
– История ее характеризуется принципом подвижности или процессуальности существования. Она есть континуум, в котором царит тотальность возможности и действительности, причем напряженность между этими двумя модусами бытия и составляет как основу укоренения в действительности, так и условие изменения.
– Как же осуществляются повороты от «укоренения» к «изменению» и обратно?
– Переход от одной ее стадии к другой, от одной системы отношений к другой и, следовательно, качественный перелом или скачок осуществляется не дискретно, а предполагает континуум переходных состояний, могущих повести и к качественным скачкам («переломам», «порогам», если воспользоваться терминологией Лейбница)…
Лейбниц имел дело с «монадами», которые он мог считать сгустками Вселенной, но это не мешало ему работать с ними, как с деталями моделируемой системы. А мы имеем дело с российской реальностью, в которой единица народонаселения моделируется не из себя самой, а из того целого, в которое она входит, притом это целое – не столько связная модель, сколько агрегат частей, находящихся в вечно изменчивом состоянии…
– И потому не случайно в русской культуре так долго отсутствовали целостные определения личности, заменяясь мозаикой отдельных понятий, принципов и априорных схем. Лишь в этом плане можно говорить об определенной конгениальности русской культуры не западным (особенно постренессансным, ориентированным на прямое самораскрытие и полную самореализацию сущностных сил субъекта), а «азиатским теориям личности с их акцентом на «корпоративное благосостояние», экзистенциальную ясность, интуитивную логику и т. п.
…И даже в коммунистической программе были прописаны не права личности, а расцвет индивидуальности, неделимой и невыделимой, наделенной набором необходимых черт и сторон. Это многостороннее развитие есть не что иное, как выстраивание и отлаживание функционирующей единицы инженерами душ, которые (инженеры душ) сами выстроены по тем же законам…
В культуре, отмеченной «избыточностью» ресурсов и «латентностью» смыслов, следует, вообще-то говоря, ждать некоей компенсации такого недобора внутренней гармонии…
– Именно в конце XV – начале XVI века формируется понятие «святая Русь»…
…которое ставит религиозную общность над всеми другими системами и наделяет высшую духовную субстанцию чертами «всепроникаемости»; то есть все элементы жизни любого человека, причастного к этому Целому, связываются в осмысляемое единство, и в это Целое интегрируется весь универсум.
Колеблющийся «агрегат состояний» подпирается православием так же, как с других сторон – самодержавием и народностью. Эта формула будет найдена во времена империи, но диктует ее состояние людей, ощущающих, что разбегающиеся, расступающиеся, раскатывающиеся за пределы царства пределы надо как-то связать.
Идут ли войны на Востоке или на Юге, ширятся ли там мирная торговля и культурный обмен, а «жестокосердый ислам» продолжает противостоять «гуманному православию» в головах россиян, втянутых в переходный этап от царства к империи.
– Этим созидается замкнутая система, гарантирующая стандартизированное описание всех касающихся ислама эмпирических ситуаций. Такие эвристические дефекты можно объяснить и отсутствием в средневековой России – в отличие от Запада – структурно устойчивой проблемы редукционизма, т. е. в данном случае определения ислама как «христианской ереси» (и, значит, традиции активно оперировать аналоговым мышлением).
Ересей нам и без ислама хватает с избытком.
Диалог 4
Империя на взлете
Пролегомены (исходные данные новой ситуации) высвечены с помощью сравнения: Россия – дом. Новый дом, заложенный на новом месте – на месте «тьмы лесов» и «топи блат». Дом стоит тылом к Северу, фронтом на Юг.
Что такое «Юг»?
– Это государства и народы, наиболее близкие России в религиозном прежде всего (православные) и культурном планах. Стереотипизация идеи «Москва – Третий Рим» упрочила взгляд на них как на периферию русской политико-культурной зоны, т. е. ее «сниженный дубликат», но всегда реальный и потенциальный союзник в борьбе и с Западом, и с мусульманским Востоком.
С Западом, как всегда, более-менее ясно: Запад – антипод. Конфессионально, культурно и политически он России чужд. Однако поворот Петра в сторону Запада раз и навсегда, кажется, включает судьбу России в европейскую цивилизацию. Восток же – «обиталище варваров» – не столько антипод, сколько поле приложения цивилизационных усилий. На Запад мы идем с «топором» и «прорубаем окно», чтобы через него Западу «грозить». На Восток мы «открываем двери» и идем туда тихо и спокойно.
– Давала ли теоретическую основу для этого современная Петру русская историческая мысль?
Совершенно нет! – отвечает Марк Батунский. Теоретическая мысль ищет основу для другого: надо вписать Россию, перекрестившуюся из царства в империю, в ряд великих империй прошлого. Дмитрий Кантемир в этих целях даже сокращает число этих империй с четырех (Ассиро-Вавилонская, Персидская, Греко-Македонская и Римская) до трех (включив первую в состав второй), цель операции – освободить место для Северной, или Российской. По служебной принадлежности Кантемир – молдавский господарь, что свидетельствует лишний раз о том, что Российскую империю строили отнюдь не только русские. По генетическому корню он из татар, что свидетельствует лишний раз о том, что двери на Восток открылись не зря. Хотя из европейского окна нас продувает куда сильнее.
Батунский воспроизводит наблюдение одного из своих коллег-историков о том, что русские, как бы переживающие в XVIII веке второе рождение и ищущие свое новое место среди «стран света», – по отношению к Западу обнаруживают странное психологическое противоречие: с одной стороны, это гордость самоутверждения, выходящая далеко за рамки традиционного смирения, с другой стороны – самоуничижение, что паче гордыни.
– Именно в те годы с духом первооткрывательства странным образом уживается сознание собственной незначительности, постоянная апелляция к «снисхождению»… Расцветают так называемые имитационные формулы»: («второй Гомер» – Херасков, «новый Гораций» – Державин, «северный Расин» – Сумароков, «русский Тацит» – Карамзин) – формулы, являющиеся не только «концентрированным выражением чувства собственного достоинства», но и – одновременно – индикаторами сознания своей зависимости и эпигонства. Ломоносов, превосходивший соотечественников универсальностью образования, понимал это: «Сами свой ум употребляйте. Меня за Аристотеля, Картезия, Невтона не почитайте. Ежели вы мне их имя дадите, то знайте, что вы холопы, а моя слава падет и с вашей».
Лучшей отповеди нашему комплексу неполноценности, чем эта, не найти, поэтому оставим за Ломоносовым последнее слово в этом вопросе, а сами зададимся другим: на что, собственно, опирается русская мысль в своих диалогах со «странами света»? Я имею в виду именно диалоги: ценностные взаимоориентации, базовые взаимохарактеристики, а не практическое взаимодействие. Ибо практика идет как бы совершенно независимо от теоретических обоснований.
– Петра Iменьше всего интересуют теоретические изыски – лишь бы они явно не противоречили ни экспансионистской динамике его государства, ни общим нормам курса бюрократически господствующей элиты по отношению к мусульманским подданным, лишь бы познавательная эффективность любой связанной с Востоком культурной формы была поставлена на службу имперской власти, будь то ее же стремление к захвату «Киргиз-Кайсацкия орды» как «ключа и врат всем азиатским странам и землям». Идут систематические попытки организовать под своей эгидой подготовку знатоков восточных языков, в том числе и мусульманских, а равно и самого ислама.
Неудивительно, что первый полный перевод Корана на русский язык сделан по распоряжению Петра (между прочим, тоже Петром – Посниковым).
Екатерина II в практическом плане – достойная преемница: она внимательно следит за тем, чтобы в киргиз-кайсацких «ордах» не только не преследовался ислам, но чтобы муллы из числа казанских татар были первыми и надежными слугами престола; на государственные средства строятся народные училища, в которых преподают муллы, переиздан Коран, учреждено Магометанское духовное собрание…
– Какую бы негодующую реакцию ревнителей жестко унификаторского курса (особенно у клерикалов) ни вызывали эти и им подобные акции, нельзя не видеть в них очередное доказательство того, что «русское (царское. – М. I).) правительство в течение уже многих поколений воспитывало государственных деятелей, изощренных в искусстве внутренней дипломатии», что коллективный опыт и коллективный разум «самодержавного правительства» далеко не всегда исходили из представления, будто «Россия проживет одним православием…».
Это – практика, а все-таки чем надеется «прожить» Российская империя в области теории? Увы, теория – сама по себе. Очередной русский парадокс: фонд реалий растет, ширится, усложняется, множественность миров признается по факту, психологические структуры обновляются (и не только у дипломатов и бюрократов, но на всю демографическую глубину); «терпимость к неопределенности», продемонстрированная когда-то Афанасием Никитиным, становится чертой эпохи – а меж тем в сфере духа продолжает скакать кочевник-агрессор, татаро-монгольское иго не прощено, «басурмане», «мусульмане» и «агаряне» сливаются в общую опасную массу, все, что связано с исламом, воспринимается как аномалия, все, что надвигается из Азии, окрашено либо в мрачные, либо в «хаотические» тона. Там живут люди, «не знающие собственной пользы», так что хлесткое определение известного писателя-декабриста, что Русь обретает себя меж «оседлой деятельностию Запада и бродячею ленью Востока», – почти штамп того времени.
А тем временем люди, несущие в подсознании эти штампы, преспокойно едут на Восток, едут на Юг, наблюдают тамошнюю жизнь и составляют отчеты, замечательные по обилию материала и точности описаний.
Символической фигурой российского востоковедения становится Путешественник.
Перелопатив тексты многих авторов (Ханыков, Мейендорф, Березин, Чихачев, Базили…), Марк составляет следующую суммарную характеристику:
– Он, этот Путешественник, – в первую очередь прагматик, и в качестве такового понимает мир (особенно Восток) как нечто заведомо диссоциативное, атомарное и замкнутое частным опытом. Естественно, что при таком восприятии универсума первостепенное значение придается отдельному моменту («сиюминутности») и деталям. Время исчезает, оно растворяется в едином Настоящем. Операция эта воистину фундаментальная (ибо доселе главным достоинством Востока в глазах Европы могло признаваться лишь его богатейшее и славнейшее Прошлое) и неминуемо… антииерархическая (= антизападноцентристская). Дело в том, что растворение границ между временами есть в конце концов и разрушение всех и всяческих рамок, перегородок, границ между различными культурами («антидифференциация», говоря языком современной культурологии). Ни одна из культур не может уже считаться центром: все может быть культурой, коль скоро ее называли таковой, все общезначимо и должно осваиваться культурой (или различными – и европейскими и неевропейскими – культурами).
Это уже, знаете, почти политкорректность. Путешественник, исходящий из такого «многообразия разумов и культурологических вариантов бытия», не может свести его ни к какому единому «правильному образу»; единственный теоретический ответ этому практическому вызову – отказ от «традиционной разобщенности двух пластов – русско-православного и ориентально-мусульманского».
Как же ответили на этот вызов (зов практики) великие умы русского XIX века, тем более что некоторые из них были и изрядными путешественниками (не будем уточнять, по своей или чужой воле)?
Марк обводит горизонт по вершинам.
Пушкин – отдает должное Мухаммеду как гонимому, но в конце концов торжествующему поэту-пророку (в таком контексте Мухаммед – вполне романтический герой). Но это не мешает Пушкину считать Коран «собранием новой лжи и старых басен».
Герцен – отдает должное Магомету II, сокрушившему Византию (в том контексте, что иначе Византию сокрушила бы католическая Европа, и Россия не смогла бы помешать такому усилению Запада). Но это не мешает Герцену в хлесткой суммарной характеристике Востока соединить «брожение страшных переворотов» и «косный покой», а «религиозную и гностическую жизнь азиатца» счесть «колоссальной и ничтожной».
Чернышевский – называет иудео-христианское Священное Писание лжеучением и даже изуверством (что вполне естественно в контексте воззрений автора «Четвертого сна Веры Павловны»). Что же до Востока, то все, чем, по его мнению, отличается Коран, «или глупость, или мерзость».
Добролюбов – вступается за Мухаммеда, который велик не потому, что «захотел» свершить нечто великое, а потому, что его приход был подготовлен «обстоятельствами исторического развития народа», иначе пророк оказался бы просто «обманщиком» (чтобы вплотную подойти к историческому материализму, такой вариант вполне законен). Но – не говоря уже о том, насколько рискован в этом сюжете сам стилистический оборот с «обманщиком» (впрочем, ревдемы и с Христом не особо стеснялись), – ведь никакого интереса к существу ислама тут не видно, никакой попытки духовного взаимодействия, никакой готовности понять.
Есть одно исключение – Чаадаев.
Оставляем за скобками общую чаадаевскую этногению, его мысли о том, каким образом спасется человечество и какую роль в этом деле должна сыграть Россия. Марк выделяет лишь ту точку, в которой Чаадаев прорывает фронт сознательного неведения по отношению к исламу; так между христианским и мусульманским мирами утверждается равнодостоинство.
– Делается это во имя того, чтобы прекратить процесс парцелляризации человечества, но посредством не стандартизации реакций сознания, обезличивания личностей, а, напротив, обогащения отношений между ними, все более полного использования и индивидуальных и коллективно-этнических особенностей.
У меня такое чувство, что это – болевая точка, сокровенная мечта, освещающая все размышления Батунского-исламоведа полюс недоступности: диалог двух великих религий как равных бытийных собеседников. Для этого надо – ни мало ни много:
– Признать и себя лишь в качестве сегмента всеобщего бытия, которое развертывается как бесконечная цепь различий и не имеет ни смыслового, ни любого другого вечного фиксированного центра.
Так ведь и «центр» еще должен признать это.
Диалог 5
Империя на излете
Пролегомены:
– Дистанционирование друг от друга прагматических мотивов отрицательных (антиисламских) идеалов и нормативов повышало значение саморефлексии, сложных сцеплений индивидуальных результатов познания мусульманского мира и устойчивых стереотипов, ставивших барьеры как перед абстрактно-рассудочными, так и интуитивно-эмоциональными его репрезентациями.
Перевожу в другую систему слов: на смену пониманию ислама как безнадежно отрезанного от христианства и потому пугающего нас инобытия (псевдобытия, небытия) вырабатывается в русском сознании позиция для возможного диалога.
Три мыслителя помогают нам понять драматичный ход этой работы: Данилевский, Леонтьев и Достоевский.
Данилевский вносит в этнологическую проблематику приемы естествоиспытателя: все у него причинно, все природно, все подчинено объективным законам. Иногда эти законы заносят нас туда, откуда довольно трудно вести диалог, особенно в свете дальнейшего опыта. Например, что «племена, входящие в состав империи и имеющие право на ту же степень личной, гражданской и общественной свободы, как господствующая исторически народность (то есть как русские. – Л.А.), но не на политическую самостоятельность; ибо, не имея ее в сознании, и потребности в ней не чувствуют и даже чувствовать не могут» (а если могут, если чувствуют? – Л.А.). Или: что кавказские горцы – «природные хищники и грабители» (как дальше вести диалог? – Л.А.).
Однако логическая последовательность приводит Данилевского к признанию некоей естественной (природной?) глобальной целостности, единой для всего человечества.
В языковой системе Батунского это выглядит так:
– Отвергается имманентная традиционному европоцентризму стойкая дихотомичностъ образно-концептуальных моделей западного и незападного социумов.
Говоря по-нашему: Россия – это вам не Европа, но и не Азия, это нечто самобытное и самодостаточное.
Тут, правда, Данилевского покидает невозмутимость естествоиспытателя: его «пробирает дрожь» при мысли о межеумочном положении, в котором рискует оказаться Россия, и мы сегодня можем его понять: страна, утратившая положение великой державы, мечется «меж станами», ища себе место в подступающей геополитической схватке. Но тут Данилевский-ученый помогает Данилевскому-гражданину сохранить самообладание: как истый натуралист, описывающий отряды и классы исследуемого мира, он намечает десяток культурно-исторических типов: от египетского до романо-германского (среди этих десяти, заметим, нет мира русского – Россия, как мы видели, застряла в «промежутке», от которого Данилевского брала дрожь). Но сам факт сосуществования равнодостойных культурно-исторических типов оказывается в конце концов главным открытием Николая Данилевского, и именно это подхватывают у него Арнольд Тойнби, Лев Гумилев, а в наши дни – Сэмюэль Хантингтон с его грядущим противостоянием цивилизаций.