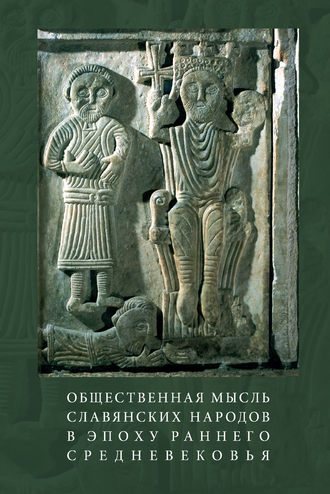
Полная версия
Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья
Как ни велика была роль императора в жизни Византии, все же наличие государства как чего-то, существующего отдельно от него, не вызывало у ромеев сомнений: например, государственная казна могла растрачиваться василевсом бездумно и неподотчетно, но она все равно воспринималась именно как государственная казна. В Болгарии это различение не проводилось: при переводе греческих юридических памятников византийский термин для казны огщоспог всегда заменяется на князь[34].
Одной из форм репрезентации верховной власти, заимствованных болгарскими правителями у Византии, были вислые печати на документы. Любопытна археология обнаружения этих печатей. В данном случае нас занимает такой неожиданный аспект бытования моливдовулов, как их адресация. Если первый христианский правитель Болгарии Борис-Михаил действительно пользовался печатями по назначению, рассылая свои письма по всей державе (из 11 его печатей 9 найдены в разных местах), то из 18 печатей царя Петра 15 найдено в его столице Преславе. Что же касается долгого правления Симеона, то его можно условно разбить на два периода: если из 11 печатей, сохранившихся от раннего периода, в Преславе найдено лишь 4, то из 5 печатей второго периода в столице остались все до одной[35]. Забавно, что за пределами Болгарии пока что обнаружена одна-единственная болгарская печать, да и та принадлежит претенденту на болгарский трон, которого Константинополь держал у себя как запасную фигуру в политической игре.
Византийцы «приучали» болгар к одному, привычному им способу обращения с императорскими печатями – так, в Преславе найдены печати тех самых императоров, которые имели обширные дипломатические сношения с Болгарией (Льва VI, Романа I, Константина VII). Но болгары чем дальше, тем активнее присваивали моливдовулам совсем иное значение: те начинали служить скорее церемониальным целям, чем целям управления страной или дипломатических отношений. По всей видимости, властители их использовали при общении со своим ближним кругом.
Еще одна сфера, в которой князь, как можно предположить, нарушал обыкновения, навязываемые ему Византией, касалась церковных прерогатив. Конечно, василевсы ромеев и сами частенько вмешивались в религиозные проблемы Империи, но болгарские князья внесли сюда свои традиции – ведь языческий хан явно выполнял роль жреца гораздо чаще, чем император – роль священнослужителя. В отличие от Византии[36], болгары явно не усматривали здесь мучительного противоречия, князь спокойно усвоил себе право через голову церкви объявлять общегосударственный пост и коллективные молебны – против этого обыкновения протестовал римский папа в переписке с Борисом[37].
Если с аристократией князь общался тесно и постоянно, то появляться перед массой подданных, видимо, не считалось его обязанностью. Скажем, единственный вид коммуникации «чади внешней» с князем, предусмотренный Иоанном Экзархом, – это лицезрение его живописного портрета[38]. Здесь можно констатировать вопиющий контраст с византийской ситуацией, которая столь часто служила болгарам образцом для подражания: в Константинополе император регулярно появлялся перед подданными на ипподроме, во время торжественных богослужений и церемониальных выходов. Видимо, для Империи здесь проявлялся рецидив представлений о выборности императора, тогда как в Болгарии власть всегда воспринималась как наследственная. Обратим внимание и еще на один компонент представлений о взаимоотношениях князя с подданными, в котором болгары не следовали византийскому образцу: просвещение народа лично князем не считается, удивительным образом, доблестью правителя. В похвале Симеону читаем: «проливаеть акы сътъ сладъкъ из оустъ своихъ предъ боляры на въразоумие техъ мыслемь являяся имъ новый Птолемеи»[39]. А ведь современник Симеона император Лев VI лично выступал в церквах с проповедями, предназначавшимися для всего народа! Да и в наставительных текстах, создававшихся византийцами для просвещения князя, говорится об обязанности правителя «учить подданных Божьему Христову закону»[40]. Фигура князя предстает, как это ни покажется парадоксальным, даже более оторванной от массы подданных, чем фигура василевса!
4
Представление о «болгарах» как о кочевой орде в IX в. трансформировалось в общественном сознании: «болгарами» всё больше становились все подданные князя. Как же стратифицировалась эта, по-новому концептуализированная, общность? Когда князь Борис решил креститься, против него, по словам Иоанна Скилицы, выступили οι του εθνους αρχοτες και το κοινον 'князья народа и общество'[41]. Интересно, что хронист употребил термин койнон, а не демос, охлос, этнос и прочие: в сущности, это словоупотребление весьма необычно, но восходит ли оно к каким-либо болгарским реалиям? Видимо, да: ведь этот термин встречается еще раз, среди тех церемониальных вопросов, которые положено было задавать болгарским послам при константинопольском дворе: «Как поживает духовный сын нашего святого императора, от Бога (поставленный) князь Болгарии? Как поживает от Бога княгиня? Как поживают „канарти кинос“ и „булиас таркан“, сыновья от Бога князя Болгарии и прочие его чада? Как поживают великие внутренние болиады? Как поживают прочие внутренние и внешние болиады? Как поживает весь народ (το κοινον του λαου)?»[42]. Понятно, что эта последовательность отражает представления самой болгарской верхушки о структуре болгарского общества: в ней огромную роль играют, помимо князя и княгини, старшие сыновья, выделяемые из числа прочих детей князя, затем «боляре», делящиеся на две категории (ср. выше), и опять – весь народ.
Быть может, в этот же контекст следует поставить и эпизод из жития Климента Охридского, где ученики Мефодия тяготятся общением с των πολλων 'многими'[43] (ср. употребление этого слова в ханском титуле). Зато, по настоянию Бориса, Климент, Наум и Ангеларий поселяются в домах наиболее знатных приближенных князя, а до этого «им было предоставлено жилище, определенное для первейших из его друзей»[44]. Преемник Бориса Симеон, согласно тому же источнику, принял решение назначить Климента епископом Древеницы – также лишь после того, как «посоветовался с умнейшими из своих приближенных»[45]. Наличие вокруг «царя», которого следует бояться, «князей и вельмож», перед которыми «стыдятся», постулируется в «Учительном Евангелии»[46]. Греки именуют таких людей μεγιστανες, μεγα δυναμενοι εν Βουλγαρια и даже просто «болгары Симеона» – но со значением 'знать'[47].
У особого статуса боляр по сравнению с остальной массой подданных была и оборотная сторона: князь Борис писал папе Николаю, что когда против него поднялось языческое восстание, он перебил primates eorum atque majores etiam cum omne prole… mediocres vera, seu minores nihil mali pertulerint («их главарей и наиболее знатных со всем их потомством… а средние либо низшие не претерпели зла»)[48]. Неизвестно, следует ли придавать этой терминологии слишком большое значение, но безусловно то, что вину Борис высчитывает именно сообразно знатности.
Видимо, информация о болгарах, содержащаяся в византийских известиях о Болгарии, отражает взгляды не только царя и его непосредственного окружения, но иногда и других социальных групп. Например, статья «Болгары», появившаяся в энциклопедическом словаре «Суда», который был выпущен в конце X в., опирается, скорее всего, на какие-то разыскания, предпринимавшиеся в эпоху византийско-болгаской дружбы и союза в сер. X в. Построение этой статьи весьма необычно. Она явно состоит из трех отдельных статей, каждая из которых открывается словами «Да будет известно», знакомыми по трактату Константина Багрянородного «Об управлении империей». Первая сообщает, «что болгары прельстились аварским платьем и переоделись в него и до сих пор его носят»[49]. Дальше идут сведения о том, какие византийские императоры были данниками хана Тервеля, сколько золота, серебра и шелка собирал он в качестве дани, и потом неизвестный источник Суды переходит к щедрости хана: «он раздавал воинам ящики, полные золота и серебра, и правую руку наполнял золотом, а левую серебром». Наконец, третья статья составляет так называемые законы Крума, в которых не столько излагаются какие-либо исторически достоверные законы, сколько в явно сказочной форме представлены некие социальные предостережения в адрес верховной власти: «Спросил Крум аварских пленных: откуда вы поняли, что погиб правитель ваш и весь народ? И они ответили, что „умножились обвинения (людей) друг против друга, и погубили самых храбрых и разумных, а затем несправедливцы и воры сделались сопричастниками судей; а затем пьянство: когда умножилось вино, все сделались пьяницами; а затем мздоимство, а затем торговля: все стали купцами и начали обхитрять друг друга. И от всего этого произошла нам погибель". Услышав это, (Крум) собрал всех болгар и приказал им в виде закона: если кто кого обвинит, то пусть его не слушают, пока он (сам), связанный, не будет подвергнут пытке; а если будет обнаружено, что он донес и солгал, пусть будет убит. И пусть не будет позволено давать еду тому, кто крадет, а всякий, кто на это решится, пусть будет казнен. И приказал (Крум) ломать голени вору, а все виноградники вырубить. А всякому просящему не просто подавать (милостыню), а вручать (все, что необходимо ему) для самостоятельности, чтобы он в другой раз не просил, а того, кто все же будет нищенствовать, тотчас казнить».
Перед нами – утопия, по всей видимости, отражающая мнение неких высоких общественных групп Болгарии. Нам кажется, что это военные круги. Именно воинам важно было, опираясь на авторитет хана Тервеля, напомнить царю Петру, что им надлежит быть самой ценимой группой населения (в мирную эпоху середины X в. это легко могло забыться). На примере погибшего аварского государства авторы утопии жаловались, что в современной им Болгарии, вопреки заветам хана Крума, непомерно растет значение торговли, что увеличилось судебное крючкотворство и что по причине пьянства и мздоимства испортились древние суровые нравы. Заметим, что в других средневековых государствах авторами утопий об идеальном прошлом часто становились монахи (как мы увидим ниже, такова же и болгарская «Апокрифическая летопись»). Но в случае с «законами Крума» это явно не так.
Если «законы хана Крума» – плод аристократической резиньяции, то взгляд на общество клерикальных кругов Болгарии X в. представлен Косьмой Пресвитером. В его изложении, помимо царя и боляр, существуют какие-то отдельные от боляр «старейшины»: он упрекает богомилов, что те «ругаются старейшинам, укаряют боляры»[50]. Быть может, «старейшины» для Косьмы – это те, кто с высших этажей социальной иерархии видится как «багаины»? Кроме того, Косьма обвиняет еретиков еще и в том, что они «учат же своя си не повиноватися властелем своим», и можно понять так, что эти «властели» отличны от вышепоименованных. Кто это, представители местной администрации?[51] Можно лишь гадать. Вообще, болгарское общество предстает у Косьмы буквально вибрирующим от социального насилия: простой человек стремится убежать из мира, где «работы настоят владык земных, и от дружины пакость всяка и насилие от старейшин»[52], где перед ним не только вельможи «величеством сана гордящеся ни множеством богатства уродующе»[53], но даже монахи «красующеся ризами величаются ездяще на ко них»[54], «яко же и у богатых живущих в миру»[55]; мало того, «насилья же бывающая ими (монахами!) немощным». Внутри клерикальной прослойки, по признанию Косьмы, «попове грабят и ино зло в тайне творят, и несть им воспретящаго от тех делес злых, епископи же не могуще въздержатися яко же и мы, а попом не претят от греха»[56]. О том, что епископ жил в богатстве, сравнимом с богатством местного «комита», или губернатора, мы узнаем из жития Климента: Борис пожаловал святому в дар три дома в Деволе, красивых и принадлежавших роду комита. Кроме того, он подарил ему места для отдыха в Охриде и Главнице[57].
Единственный источник, который предоставляет нам хоть крупицу социальных воззрений народных низов, – это фольклорное житие Иоанна Рилского. Там описано, как царь Петр, «поя с собою множество людие и вся воя своя», пошел на свидание со святым и, повстречавшись с ним, «насыпав чашу злата и пусти к нему… И взя святой отец Иоанн чашу, а злато възврати, рекь отрокомь: идете и рцета цареви:… Мне, брате мой, ни воя ружити и никояжде купля куповатн (курсив мой. – С. И.); да възми си злато, пониже тебе есть много на потребу, а чашу удержах на памят тебе»[58]. Как видим, торговая деятельность, явно не нравившаяся военной аристократии Болгарии, не вызывает у автора жития никакого протеста. В целом же, достаточно сравнить это житие Иоанна Рилского с другим, написанным несколькими веками позднее Евфимием Тырновским, чтобы понять, как слабо в первом из этих текстов профилированы воззрения на обязательства царской власти: Евфимий, дойдя до этого же эпизода встречи святого с царем Петром, разворачивает целую политическую программу с многочисленными советами царю[59]. Ясно, что в эпоху Первого Болгарского царства стройной системы воззрений в этой сфере еще не существовало. В церковной службе тому же царю Петру (который был канонизирован в качестве святого) образ правителя отличается лишь щедростью: «и сокровища нескудно подая изливая на убогая присно, и милостиня не оскудеящя, и черноризцы любя, и служителя Божия молитв их ради» [60].
5
Болгарская «Апокрифическая летопись» (или «Сказание Исаии»), по нашему мнению, была написана в третьей четверти XI в., в ту эпоху, когда Болгария была завоевана Византией. Тем самым, формально этот памятник выходит за пределы литературы эпохи Первого Болгарского царства. Однако он все еще отражает представления только что минувшего периода. Впрочем, вычленение из этого памятника социальных представлений затруднено тем, что в нем ветхозаветный апокриф причудливо соединен с псевдоисторическим нарративом и Апокалипсисом.
Летопись создана, скорее всего, монахом, причем имевшим еретические, богомильские симпатии; он писал в период, когда болгарская государственность была утрачена, и обращался к широким слоям населения– ведь апокрифы были «массовым чтением» средневековья. Летопись, как всякий текст, претендующий на некую «базовость», на возвращение к самым глубоким основам, не может не затрагивать проблему «обоснования государственности». Неожиданным образом оказывается, что здесь, как и в Именнике болгарских ханов, автор должен выразить свое отношение к легендам о древнем единстве кочевых народов в рамках Великой Болгарии. Вкладом христианского летописца является лишь придание этому поверью провиденциальной, христианской (точнее, библейской) окраски: «Аз, Божиим повелением, приидох на левой стране Рима и отделих третью часть от кумани, и поведох их путем, тростию показуе, и доведох их… и насадих землю Карвунскую реченому българска, беше бо опустела от елинь за 130 лет. И насадих ею множьство люди от Дунав до море и поставих им царя от них, ему же бе име Слав царь. И той убо царь насели хору и градове»[61]. Как видим, изначальным куманам-болгарам не приписано никакого «государственного» существования – они лишь безликая «магма», из которой только предстоит сформироваться «настоящим» болгарам. Само рождение государственности, как и место ее рождения, имеет божественную санкцию. Пророк Исайя, подобно Моисею, выводит народ в «землю обетованную» и лишь там «ставит» для них царя, а уже тот приступает к заселению территории. «В та лета изобилие бысть от всего… И той же бысть первый царь в земли българской, и царствова лет 119 и сконча се». Говорящее имя мифического царя Слава указывает, что для летописца «куманы, рекоми българе» были в то же время славянами.
В дальнейшем Исайя уже не участвует в судьбах болгар. Следующий царь не «поставляется» им. Появление второго властителя вообще никак не объяснено: «И ту по нем (Славе. – С. И.) обрете се инъ царь въ земли болгарской, детище в краве ношен 3 лет, еже нарече се имя ему Испор царь, преемъ царство болгарское»[62]. Взаимное соотношение между Славом и Испором (очевидным Аспарухом) никак не обсуждается в Летописи: тот не является ни его потомком, ни его конкурентом – это просто еще один старт болгарской государственности. Понятно, что здесь как-то отразилось фольклорное воспоминание о приходе протоболгар Аспаруха на болгарскую территорию, к тому времени заселенную славянами. Однако нас в данный момент интересует вовсе не это: важно, что Испор не получает ни божественной санкции, ни правопреемства от Слава – он появляется чудесным образом: три года он пребывает в некоем сказочном пространстве, и в этом – его харизма. Если мы будем читать пассаж так, как он до нас дошел, то есть, что Испор был «в краве (корове!) ношен», это будет означать отсылку к каким-то древним мифам, имеющим параллели в хеттской и египетской мифологиях, к образу коровы, рождающей человека. Тогда Испор будет восприниматься как «сын плодородия», ибо именно это олицетворяет во всех мифологических системах корова. Если же принять конъектуру «крабе», то есть коробе, то это намекало бы на другой круг мифологических образов: подобное происхождение роднит Испора со многими мифологическими героями (например, Моисеем), сплавляемыми, обычно по реке, в корзинке. В обоих случаях Испор предстает как «первочеловек», и в этом отношении он столь же, хотя и по-другому, мофологичен, как и Слав, – недаром же Испору приписано сказочное долго царствование—172 года. Понятно, что для славянского автора XI в. Аспарух был таким же фольклорным персонажем, как для протоболгарского автора VII столетия Аттила. Лишь Испор завершает формирование болгарской государственности: «И по умрьтию же Испора царя болгарского нарекошеся кумане българе, а прежде беху Испора царя погани зело и безбожнии суще и в нечестии многа».
В Именнике болгарских ханов никогда ни слова не говорится о том, кем последующий хан приходился предыдущему, – там важен лишь род, к которому принадлежит хан. В Летописи же в целом проводится идея престолонаследия от отца к сыну: там говорится, что «роди Испор едино отроче и нарече име ему Изот»; «И потом пакы преем царство болгарское сын Испора царя, ему же име Изот»; «И роди Изот царь два отроче»; «и по умрьтию же Изота царя пакы преем царство болгарское сын его Борис» и т. д. Начиная с Бориса, четвертого по счету правителя, повествование приобретает черты некоторой исторической достоверности (вспомним, что в Именнике первый узнаваемый хан – Курт). Тем важнее, что первые два болгарских правителя появляются в Летописи сверхъестественным образом и не приходятся друг другу никем: первый получает квазибиблейскую, второй– откровенно языческую санкцию. Помимо всего прочего, это свидетельствует о том, что и через много веков после крещения Болгарии такие феномены, как зарождение государственности, не подверглись в народном сознании полной христианизации.
Парадоксально, но факт: в языческом памятнике, каков Именник ханов, нет упоминаний ни о божественном, ни просто о сверхъестественном происхождении государства – можно было бы ожидать упоминаний о Тангри или о каком-либо тотеме, но вся легитимация носит предельно «рациональный» характер. Автору Именника важно происхождение от древней и почитаемой фольклорной личности. В то же время в христианском памятнике, какова Летопись, языческая мифология как раз присутствует. Видимо, дело в различиях между сферами бытования обоих текстов.
Какие же достоинства признает за своими правителями автор Летописи? Самое универсальное из них – это, как ни странно, основание городов: уже Испор «сьзда гради великие», при Изоте «гради чьсти зело», Симеон «гради 8 сьзыда», Селевкия «сьзда 5 градов» и снова «да дондеже сьзда Селевкия 5 гради по земли блгарьстеи», Константин «сьзда градь рекомы Бдинъ», «и сьзда 80 градов», Никифор «сьзда Мотикь и Морунець и Серь и на западь Белградь и Костурь и на Дунаве Никополь», Гаген «сьзда 3 градове». Все остальные положительные характеристики, типа «създа монастыри», «много блага быша в людех», «благочестив», «ни жены, ни греха имее» – окказиональны и не представляются столь уж важными. Мало того, даже воинские подвиги не кажутся летописцу обязательным атрибутом правителя. Таким образом, в представлении человека, жившего, скорее всего, в монастыре, причем в эпоху несомненного упадка болгарского города, политическая культура ассоциировалась с урбанизацией. Любопытный итог эпохи, начинавшейся в кочевой ставке булгарских ханов!
Б. Н. Флоря, А. А. Турилов
Общественная мысль Древней Руси в эпоху раннего средневековья
Главным источником представлений древнерусского общества о государстве и власти является летопись, которая велась в Киево-Печерском монастыре и дошла в виде двух редакций «Повести временных лет», а также предшествовавшего ей свода 1090-х гг. («Начальный свод»), использованного в Новгородской I летописи младшего извода. В отдельных значимых аспектах летописные свидетельства существенно дополняют другие литературные памятники, созданные в это время («Слово о законе и благодати» митрополита Ил ар иона, сочинения борисоглебского цикла, жития князей Владимира и Ольги, Феодосия Печерского, «Поучение Владимира Мономаха», устные монастырские предания, составившие основу Киево-Печерского патерика, и др.). Заведомо меньше в этом смысле значение нелитературных письменных памятников (граффити, берестяные грамоты) и тем более неписьменных источников – произведений монументальной живописи и миниатюры, изображений на монетах и печатях, хотя порою их свидетельства могут быть весьма ценны.
Особенностью русского летописания рассматриваемого периода, признаваемой всеми исследователями, является его не вполне официальный и до определенной степени независимый характер. На протяжении нескольких десятилетий (вероятно, больше трети столетия) летопись велась не при дворе киевского князя или митрополичьей кафедре, а в крупнейшем столичном Печерском монастыре, поддерживавшем связи (порой весьма тесные) с представителями разных ветвей потомства Ярослава Мудрого, но при этом не находившемся под патронатом ни одной из них (это относится даже к времени максимального сближения обители с великим князем Святополком Изяславичем на заключительном этапе его правления). То же можно сказать об отношениях Киево-Печерского монастыря со столичным боярством. Обители уже на достаточно раннем этапе ее существования оказывали покровительство киевский воевода Вышата и его сын, тысяцкий Ян Вышатич; бояре были и среди монастырской братии (сын боярина Иоанна Варлаам и приближенный князя Изяслава Ефрем, принявшие постриг от игумена Никона). С большой степенью достоверности можно утверждать, что рассказы Вышаты и его сына составили основу целого ряда летописных сюжетов[63], а взгляды Яна на взаимоотношения князя и дружины – с их критической оценкой «младших» дружинников – были с явным сочувствием отражены во введении к летописи и в «некрологе» князя Всеволода Ярославича (см. ниже). Все это, однако, не дает основания рассматривать киево-печерскую летопись как прямую выразительницу интересов конкретного князя или же боярского семейства, хотя проявления определенных симпатий и антипатий в ней безусловно наблюдаются. Печерские книжники не упускали случая (при этом, в общем, не кривя душой), чтобы подчеркнуть как уникальность и независимость своей обители с одной стороны, так и свою верность идеалам ее «первых иноков», с другой. Характерны в этом смысле слова Повести о начале Печерского монастыря, вошедшей (под 1051 г.) и в ПВЛ: «мнози бо манастыри от цесарь (вар.: „князь") и от бояр и от богатьства поставлени, но не суть таци» (как обитель Антония и Феодосия), «яковии суть поставлени слезами и пощением, молитвою и бдением»[64]. Житие Федосия Печерского напоминает, что лишь Антоний принял стремящегося к монашескому подвигу юношу в свою пещеру, в других же киевских монастырях, «видевше отрока простость и ризами же худами облечена, не рачиша того прияти»[65].
К сожалению, вопрос о том, кто именно составлял летописные своды, вышедшие из Киево-Печерского монастыря, до сих пор не получил окончательного решения. Вопреки традиционному мнению, что создателем «Повести временных лет» был монах Киево-Печерского монастыря Нестор, принявший постриг в этой обители при игумене Стефане (1074–1078 гг.) и написавший затем такие сочинения, как «Чтение о Борисе и Глебе» и «Житие Феодосия Печерского», ряд исследователей выражал сомнение в том, что Нестора можно считать и создателем летописи, указывая на противоречия между свидетельствами «Чтения о Борисе и Глебе» и «Повести временных лет» об одних и тех же событиях и между сообщениями о себе автора ПВЛ и «Жития Феодосия». Открытие А. А. Шахматовым Начального свода позволило ему наметить путь к разрешению этого противоречия. Биографические признания в тексте «Повести временных лет», не соответствующие жизненному пути Нестора, оказалось возможным отнести к создателю Начального свода. Тем самым удалось выяснить, что этот летописец (имя которого остается нам неизвестным) постригся в Печерском монастыре при игумене Феодосии (до 1074 г.) в возрасте 17 лет (ПВЛ, с. 202). Как представляется, эта точка зрения была подкреплена новыми сильными аргументами, когда Ю. А. Артамонов, анализируя текст «Сказания, что ради прозвася Печерский монастырь» и рассказ о Феодосии и черноризцах печерских в статье 1074 г., выявил в них следы редакторской работы, которую можно уверенно связывать с деятельностью создателя ПВЛ – Нестора[66].









