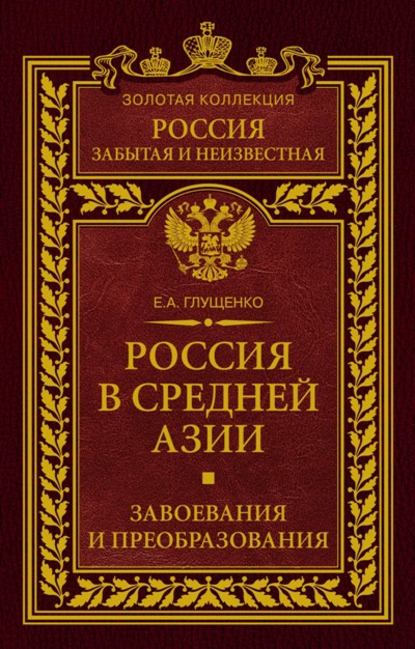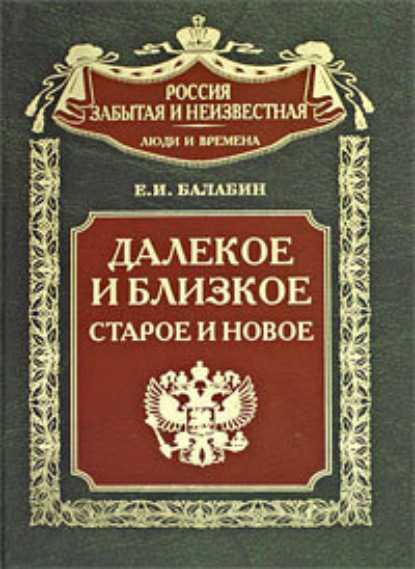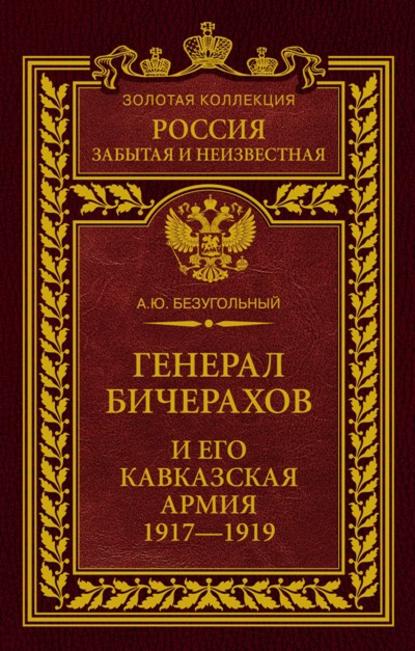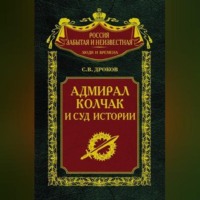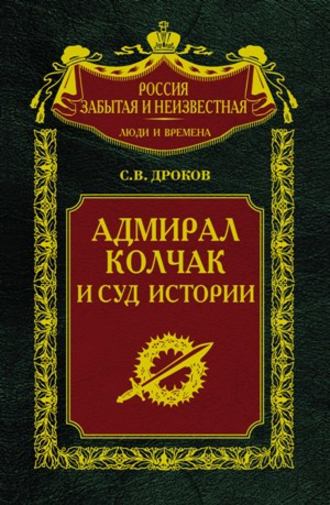
Полная версия
Адмирал Колчак и суд истории
Завязывание экономических отношений с Америкой, поддержка нейтралитета Японии и продолжение борьбы с сибирской реакцией диктовали необходимость образования временного государства-буфера, которое могло бы послужить окном в блокаде советской России на Дальнем Востоке.
После обмена мнениями между членами делегации Ахматовым, В.М. Коноговым[68], Е.Е. Колосовым, с одной стороны, и с другой – председателем Сибревкома И.Н. Смирновым[69], командующим 5-й армией Устичевым[70], председателем Дальсовнаркома А.М. Краснощековым[71] принимается решение:
«1) Создание Восточно-Сибирского государства-буфера считается необходимым. Границы его с запада временно определяются по линии рек Ока и Ангара, 2) Восточно-Сибирская государственность принимает на себя обязательства очистить в порядке дипломатических переговоров Кругобайкальскую и Амурскую железные дороги от иностранных войсковых частей и укрепить выходы Кругобайкальской дороги, 3) Политический центр обязуется передать советской власти адмирала Колчака с его штабом и весь золотой запас»[72].
Эти (и еще одно – технического свойства) решения были переданы Смирновым 20 января по прямому проводу в Москву. А на следующий день предсовобороны Ленин и предреввоенсовета Троцкий дали четкую установку: «В отношении буферного ваше предложение одобряю. Необходимо лишь твердо установить, чтобы наш представитель или лучше два представителя при Политцентре были осведомлены обо всех решениях, имели право присутствовать на всех совещаниях Политцентра»[73].
О каком представителе шла речь в ленинской телеграмме? Уж не о том ли, который, по воспоминанию А. А. Ширямова, всего лишь «присутствовал на заседаниях с информационной целью», притом что губком и революционный военный штаб отказывались от участия в городских боевых сражениях, направив единомышленников на поиски складов с вооружением? Нам думается, что томские переговоры в общей концепции Гражданской войны в Сибири должны рассматриваться с учетом следующих моментов.
Первый – признание центральной советской властью разгрома «правобольшевистской атамановщины» за земско-эсеро-меньшевистским Политическим центром. Второй – отказ центральной советской власти от дальнейшего продвижения частей Красной армии в глубь Сибири с возложением на «Восточно-Сибирскую государственность» обязательств «очистить в порядке дипломатических переговоров Кругобайкальскую и Амурскую железные дороги от иностранных войсковых частей». Третий – воплощение в жизнь идеи образования «государства-буфера несоветского типа», сформулированной в конце октября 1919 г. «земской политической мыслью», благодаря прежде всего стремлению центра, подкрепленному согласием Москвы. Четвертый – возникновение разногласий между центральной и местной сибирской советской властями в вопросе о буфере, а значит, о дальневосточной государственности.
Ряд советских историков вину за «дезорганизацию» членов советской делегации при решении вопроса об устойчивом положении Политцентра в Иркутске переложили на плечи представителя Сибирского и губернских комитетов РКП(б) А.М. Краснощекова. Между тем ответ советской делегации члены Политцентра получили вовсе не от Краснощекова, а от И.Н. Смирнова.
«Надо бешено изругать противников буферного государства, – телеграфировал Ленин Троцкому, – погрозить им партийным судом и потребовать, чтобы все в Сибири осуществили лозунг: «Ни шагу на восток далее, все силы напрячь для ускоренного движения войск и паровозов на запад в Россию». Мы окажемся идиотами, если дадим себя увлечь глупым движением в глубь Сибири, а в это время Деникин оживет и поляки ударят. Это будет преступление»[74].
Будучи осведомленными о предварительном томском соглашении, иркутские большевики стремились упредить нежелательную для них ленинскую соглашательскую установку по образованию «Восточно-Сибирской государственности».
Прежде всего, не дожидаясь официальных инструкций Москвы или Томска, поздно вечером 20 января 1920 г. они созвали объединенное заседание ЦК сибирских организаций РКП(б), Иркутского губернского комитета РКП(б), центрального штаба рабоче-крестьянских дружин, бюро сибирских групп левых социалистов-революционеров (автономистов). Исходя из того что «советская власть есть […] единственная Всероссийская власть», «власть Политического центра превратилась в одно из проявлений […] интервенции», «Политический центр, лишенный поддержки низов, не желающих идти под лозунгом Учредительного собрания, не способен к решительной борьбе с реакцией как с востока, так и с запада, в виде семеновских и каппелевских[75] банд»[76], заседание предложило Политцентру передать власть ВРК до созыва Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Показателен факт – в подписанном 22 января акте местные коммунисты согласились с формулировкой – власть передавалась ВРК на «всей территории, освобожденной от реакции». «Оскорбленная» самодеятельностью Москва настолько «обижается», что даже не удосужилась поздравить рабоче-крестьянские массы Иркутска со знаменательным событием. Не найдем поздравлений и от Ленина[77].
Кроме того, иркутяне намеренно «раздували» опасность «как с востока, так и с запада», вплоть до введения в городе осадного положения. Борьба же с «семеновскими и каппелевскими бандами» ограничилась тремя сутками и осуществлялась силами местных вооруженных частей. Но этого было достаточно для постоянных призывов к помощи Красной армии.
Далее: «таинственные передвижения по городу […] предметов боевого снаряжения» и разбросанные портреты Верховного правителя послужили предлогом для ВРК физически ликвидировать третий пункт томского предварительного соглашения расстрелом А.В. Колчака и В.Н. Пепеляева[78]. И наконец, дабы окончательно искоренить идею земско-краевого объединения или «Восточно-Сибирскую государственность», были упразднены ВССНУ и Иркутские губернское земство, городская дума и управа.
Совещанием от 20 января 1920 г. коммунистам удалось решить намеченную ими задачу – исключить Иркутскую губернию из последовавшего затем довольно странного процесса, затеянного Москвой. Ознакомившись с запиской секретаря ЦК РКП(б) Н.Н. Крестинского[79] с предложением сообщить председателю Сибревкома Смирнову резолюцию ЦК РСДРП от 22 января «О перевороте в Восточной Сибири» и о создании «революционными организациями временного органа революционной власти с социалистической платформой – Восточно-Сибирского государства», Ленин написал на ней резолюцию: «Согласен»[80] (правда, не ясно, с чем).
Вот текст этой резолюции, полученной Бюро сибирских организаций РСДРП в ответ на телеграмму от мирной делегации Политцентра: «По отношению к Восточной Сибири ЦК, считаясь с особыми международными условиями, с особым социальным укладом края, равно как и с характером революционных сил, свергших власть временной диктатуры, признает целесообразным провозглашение Сибирского товарищества в качестве временного состояния особого государственного устройства и особого экономического режима, соответствующих воле трудящегося населения, но эта государственная автономия не должна нарушать государственного единства Сибири с Россией…
Для того чтобы Восточная сибирская краевая власть могла успешно разрешать стоящие перед нею задачи и обладать надлежащей прочностью, она должна быть создана соглашением всех революционных партий до коммунистов и включать в себя их представителей. Исходя из всего вышеизложенного Центральный комитет РСДРП требует, чтобы советская власть ни в коем случае не пыталась вопреки явным интересам революции силою оружия навязывать свою волю крестьянско-пролетарской революционной демократии Восточной Сибири, свергшей своими силами колчаковскую диктатуру и образовавшей свою краевую власть; наоборот, скорей соглашение с этой властью дало бы ей возможность стоящие перед нею революционные задачи выполнить и тем самым положило бы начало восстановления единого революционного фронта по всей России»[81].
Исходя из резолюции Ленина на данном документе уместно поставить под сомнение его персональные «заслуги» в разработке стратегического плана – создания на Дальнем Востоке буферного государства, являвшегося составной частью советской России. В провозглашенную 6 апреля 1920 г. Дальневосточную республику, как и намечалось октябрьским 1919 г. иркутским совещанием «земцев», вошли: Амурское, Приморское, Сахалинское, Камчатское (с добавлением из планировавшегося Средне-Сибирского земско-краевого объединения), Забайкальское земства.
Следовательно, срыв образования «Средне-Сибирской республики» на основе Иркутского губернского земства являлся причиной «недовольства» центральной советской власти по поводу действий иркутян, среди которых сторонники центральной советской власти и непосредственного сообщения Иркутска с Москвою удерживали свои позиции вплоть до созыва III Всесибирской конференции РКП(б).
Преувеличена и другая «заслуга» Ленина – при помощи государства-буфера восстановить мир на Дальнем Востоке, не допуская войны с Японией. Обозначенная Лениным на IX съезде РКП(б) «всемирная социальная революция» к концу 1920 г. получала неожиданный ракурс: социально-экономическое развитие территорий Дальневосточной республики. Ленин сформулировал практическую задачу коммунистической политики: «сеять вражду», «стравливая друг с другом» первую из трех «ближайших противоположностей» – Японию и Америку на «большой территории Крайнего Востока и Северо-Востока Сибири» – «неизвестно кому принадлежащей Камчатки». Решение же задачи рассматривалось через проект подготовленного А.И. Рыковым[82] договора о 60-летней «экономической утилизации»[83].
Таким образом, материалы «Следственного дела» в аналитическом сопоставлении с опубликованными исследованиями по истории Гражданской войны и периодической печатью первых лет советской власти позволяют обозначить несколько иные, чем прежде, ракурсы в ее изучении.
Во-первых, разложение режима Омского правительства, потеря им внутренней социальной базы произошли вследствие изменения общественного мнения, жаждущего избавиться от двух диктатур: «правобольшевистской», именуемой «колчаковщиной», и большевистской.
Во-вторых, укрепление общественного института, сформированного интеллектуальной, культурной, университетской элитой крупных сибирских городов, земскими деятелями, небольшевистскими партиями и движениями, способствовало стремлению широких масс защитить себя не только от тех, кто стремился к власти ради власти, но и тех, кто не в силах, по тем или иным причинам, защищать и развивать общественную самодеятельность.
В-третьих, в процессе «поглощения» «земской политической мысли» о необходимости свержения власти Колчака местные партии преследовали специфические цели: социалисты-революционеры и социалисты-демократы считали, что «вооруженное восстание в данный момент – авантюра», а коммунисты, в ожидании частей Красной армии, отказывались сотрудничать с «ярыми реакционерами – земцами».
В-четвертых, земско-краевое объединение, пересаженное в «лоно» социалистических партий, было выгодно центральной советской власти из-за переноса вооруженного удара Красной армии против «белополяков» и Деникина, бесконтрольного использования природных богатств и технического парка Сибири, временной отсрочки дальнейших перспектив «освоения» территорий, что затем выразилось в проектируемой «экономической утилизации».
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ СОБЫТИЙПротокол опроса в качестве свидетеля Якова Николаевича Ходукина
Марта 4 дня 1920 г., я, нижеподписавшийся, тов[арищ] председателя Чрезвычайной следственной комиссии К.А. Попов[84], опрашивал товарища Ходукина в качестве свидетеля по делу А.А. Червен-Водали, причем[85] т[оварищ] Ходукин показал: я, Яков Николаевич Ходукин, заведующий отделением кустарной промышленности с[ельско]-х[озяйственного] подотдела губерн[ского] земельного отдела, живу я в гор[оде] Иркутске, по Набережной, д[ом] № 4, Червен-Водали посторонний, по делу показываю, записывая свои показания собственноручно:
В канун января 1919 года (точно числа не помню) управляющий Иркутской губернией П.Д. Яковлев[86] явился ко мне в кабинет, как к председателю Иркутской губернской земской управы, и заявил, что временно исполняющий обязанности председателя Совета министров А.А. Червен-Водали просит меня и городского голову г. Иркутска прибыть в 5 часов вечера в помещение Совета министров на совещание по вопросу о передаче власти земским и городским самоуправлениям. Я ответил согласием, предупредив, что явлюсь на совещание не один, а со всем наличным составом губернской земской управы и председателем Амурской областной земской управы А.Н. Алексеевским.
В 5 часов вечера, я, заместитель председателя губ[ернской] земской управы И.Х. Петелин[87], члены управы: П.Н. Данбинов[88], А.И. Филиппов[89], городской голова П.В. Зицерман, товарищ городского головы А.Я. Гончаров и председатель Амурской областной земской управы А.Н. Алексеевский, были приняты Червен-Водали. В кратких словах Червен-Водали изложил цель совещания: правительство Колчака убедилось, что оно не отражает взглядов страны, не пользуется никаким доверием народа. Колчак своими бестактными выступлениями против чехословаков лишает Совет министров возможности работать; изданием указов, без ведома Совета министров, он нарушил Конституцию; этим нарушением дал Совету министров и юридическое и моральное право передать власть в руки местных земских и городских самоуправлений.
Передача может состояться лишь на следующих условиях: 1. Неприкосновенность личности адмирала Колчака. 2. Неприкосновенность личности всего Совета министров. 3. Свободный выезд в пределы Забайкалья всех военных, не желающих остаться на службе у новой власти. 4. […] 5. Всемерная забота об отступающей армии вообще, в частности о больных и раненых. 6. Золотой запас передается союзникам под международную охрану, впредь до образования единой Всероссийской власти. 7. Адмирал Колчак отрекается от власти Верховного правителя в пользу генерала Деникина, как преемника идеи единой власти.
Выслушав эти условия, мы заявили, что, являясь лишь частью создавшегося политического объединения в лице Политического центра, не полномочны дать ответ на предложенные им условия, но берем на себя задачу передать эти условия на обсуждение Политического центра. Со своей стороны можем лишь заявить, что ни одно из этих условий, кроме пункта 5-го, для нас неприемлемо. Условились для окончательных переговоров собраться на следующий день в 3 часа дня.
В назначенное время, в том же составе, мы были на месте. Приняты же были лишь в 4 часа. В этот момент шло заседание Совета министров по вопросу о передаче власти. На заседании присутствовал какой-то японский офицер, к сожалению, фамилии не знаю. По окончании заседания Червен-Водали принял нас и, не выслушав ответа на предъявленные им же вчера условия, заявил, что Совет министров власти передавать не намерен, а будет вести с ослушниками его воли борьбу, не стесняясь в выборах средств. Совет министров получил точные сведения, что Политический центр берет власть лишь для того, чтобы безболезненно передать ее большевикам. А при таких условиях о передаче власти не может быть и речи. Выслушав сообщение, я, от имени собравшихся, заявил, что говорить, значит, нам больше не о чем. «Прошу запомнить одно: кровь прольется не по вине земства, а по вине Совета министров». Мы ушли.
Я. Ходукин.
Зачеркнуто «последний», надписано «т. Ходукин» – верить.
Тов[арищ] председателя] Чрез[вычайной] следственной] ком[иссии] К. Попов.
ЦА ФСБ России. Арх. № Н-501. Д. 7. Л. 63–64. (Рукопись, подлинник.)
Протокол опроса в качестве свидетеля Якова Николаевича Ходукина
Марта 5 дня 1920 г., я, нижеподписавшийся, товарищ председателя Чрезвычайной следственной комиссии, опрашивал тов[арища] Ходукина в качестве свидетеля по делу А.А. Червен-Водали, причем т[оварищ] Ходукин показал:
Первые шаги Омского правительства, – ликвидация Дерберовского правительства[90], «перерыв», а затем и «самороспуск» Сиб[ирской] обл[астной] думы, ясно показали, что земству не по пути с этим правительством. Земство перешло в оппозицию. Отставка генерала Гайды и его фрондирующее путешествие по Сибири, сопровождавшееся политическими беседами с общественными и партийными работниками, тоже с особенной ясностью подчеркнуло, с одной стороны, необходимость переворота, а с другой – искание путей к достижению этого переворота[91] только внутри самой демократии. Иркутским губернским земством, по собственному почину, было созвано нелегальное земское совещание. На нем был единогласно принят вопрос о перевороте, о свержении власти Колчака.
Выделенное совещанием земское Политическое бюро взяло на себя обязанность оформить земскую политическую мысль, начать подготовительные работы по перевороту. Первыми шагами бюро было войти в переговоры с социалистическими партиями с[оциал]-р[еволюционеров] и с[оциал]-д[емократов]. Вначале эти переговоры были неудачны: обе партии категорически заявили, что вооруженное восстание в данный момент – авантюра; что опираться в борьбе возможно только на демократические силы, хорошо сорганизованные, а их-то в данный-то именно момент и нет. Было одно у всех общее: необходимость переворота… Это связало нас, и при совместной работе по подготовке к перевороту все шероховатости сгладились.
В целях координирования действий решено было организовать «Политический центр» в составе представителей: партий с[оциалистов]-р[еволюционеров] и с[оциалистов]-д[емократов], трудового объединения крестьянства и земского политического] бюро. Была попытка привлечь к работе т[оварищей] коммунистов, но они, узнав, что в составе центра имеются земцы (ярые реакционеры, по их мнению), войти отказались. Как вел подготовительную работу центр – известно: работа велась среди войск, рабочих, трудовой интеллигенции; завязаны были сношения с западом и востоком; в самой армии Колчака находились наши агенты из солдат и командного состава. Одновременно велись переговоры с чехами на предмет установления дружественного нейтралитета. Работа дала хорошие результаты – переворот был совершен.
В конце ноября прошлого года управляющий Иркутской губернией П.Д. Яковлев приехал в губ[ернскую] земскую управу и передал мне приглашение председателя Совета министров В.Н. Пепеляева пожаловать к нему в гостиницу «Модерн»[92] побеседовать о создавшемся политическом положении. Была передана просьба мне же пригласить на эту же беседу Е.Е. Колосова. Я ответил Яковлеву, что вызову Колосова, переговорю с ним и результат сообщу по телефону. Результаты эти были таковы: «беседовать» будем, но не в «Модерне» у В.Н. Пепеляева, а в квартире П.Д. Яковлева.
В 4 часа началась беседа… Пепеляев сообщил, что он получил от Верховного правителя предложение сорганизовать новый кабинет министров. На это предложение он ответил согласием при условиях: восстановление дружбы с чехами, подчинение военной власти власти гражданской, расширение прав местных самоуправлений, расширение[93] прав земского совещания в сторону наделения его «некоторыми» законодательными функциями, немедленный созыв земского совещания. Все эти условия правителем приняты, за исключением наделения законодательными функциями земского совещания – по этому вопросу предложено представить письменный доклад.
«Вот, если для вас, [господа], моя программа приемлема, то я приглашаю вас помочь мне совместно проводить ее в жизнь», [ – ] закончил Пепеляев. Е.Е. Колосов и я подвергли жесточайшей критике политику правительства вообще, в частности – министра внутренних дел Пепеляева, и заявили в заключение[94]: «Для нас Ваша программа не приемлема, мы идем своей дорогой и не остановимся ни перед чем [ – ] даже пред вооруженным восстанием. В намеченном Вами кабинете особенно для нас неприемлема фигура б[ывшего] министра внутренних дел Пепеляева, а теперешнего премьера – тем более». Пепеляев на это ответил: «Вы, [господа], более чем откровенны». На этом беседа закончилась.
На следующий день была назначена[95] у Яковлева же беседа Пепеляева совместно с общественными деятелями. Присутствовали: Пепеляев, Яковлев, А.И. Погребецкий[96], В.А. Анисимов[97], М.М. Константинов, П.В. Зицерман, А.Я. Гончаров, А.А. Пескин[98], В.П. Неупокоев[99], М.Н. Богданов[100] и Я.Н. Ходукин. Пепеляев, как и накануне, изложил свою программу, но в этот раз он был самоуверен до чрезвычайности. Объяснение простое: он уже сформировал кабинет и беседовал по инерции. Положительных результатов не дала и эта беседа.
Военные действия начались (если не ошибаюсь) 24 декабря выступлением 53-го Сибирского стрелкового полка, имевшего стоянку в Глазково. Командование восставшими принял т[оварищ] Н.С. Калашников. Неточно данный адрес помешал своевременному извещению городских войсковых частей, и одновременного выступления не последовало. В последующие дни восстание распространилось на Военный город, ст[анции] Иннокентьевскую и Батарейную. В тот же день, когда Червен-Водали так грубо прервал переговоры о передаче власти, в городе выступила инструкторская школа, под руководством т[оварища] Кашина[101], отряды особого назначения с т[оварищем] Решетиным[102] во главе и сотня есаула Петелина… Начало было неудачно, и восставшие отступили в Знаменское предместье.
Мне трудно говорить о военных действиях: сведения мои отрывочны, так как я переезжал с одного фронта на другой, выполняя поручения Политического центра; то вел переговоры с союзниками. Одно неизменно врезалось в память: беззаветная храбрость, личное мужество [товарищей] Калашникова, Кашина, есаула Петелина и Виктора Попова[103], выше всяких похвал дралась рабочая дружина в Глазково, во время набега семеновцев.
Кажется, 3 января, в час ночи, явились в штаб Глазковской группы Народной армии представители союзных держав Франции, Англии, Америки, Японии и Чехославии[104]. В пышных фразах они заявили, что в интересах человечества предлагают свои услуги быть посредниками по перемирию между нами и правительством Колчака. Я, от имени центра, заявил, что мы не сторонники кровопролития, и на предварительные переговоры согласен. Тотчас же, я, полковник Красильников[105] и поручик [З]оркин[106] отправились, по приглашению пришедших, к высоким комиссарам Англии и Франции, в их салон-вагон.
Высокие комиссары, повторив предложение своих представителей, заявили о своей готовности быть посредниками. Мы согласились на 24-часовое перемирие, во время которого должны начаться мирные переговоры. Был составлен соответствующий акт и подписан нами. Через несколько минут этот акт был принесен нам, подписанным со стороны пр[авительст]ва Колчака Ханжиным и кем-то еще – не помню – или Ларионовым, или же Червен-Водали. Оказалось, что эти представители находятся в соседнем купе и переговоры были делом их рук. На следующий день начались переговоры с 10 ч[асов] утра..
Мы[107], в составе членов Политического] центра: Ходукина, Иваницкого-Василенко[108], Ахматова, представителей штаба Красильникова и [З]оркина, предъявили целый ряд условий, на которых могли бы прекратить войну. В свое время условия эти и ответы на них были напечатаны в официальных органах Политического центра. Сейчас я боюсь перепутать их редакцию. Ответ ясно показал нам сущность намерений колчаковцев: выиграть время. Мы заявили высоким комиссарам, что считаем ответы неискренними, бесчестными и поэтому от дальнейших переговоров отказываемся. Забыл сказать, что представителями правительства были Ларионов и генерал-майор Вагин[109]. Переговоры велись путем письменных сношений. Выслушав наше заявление, высокие комиссары, после переговоров с колчаковцами, просили нас продолжить вечером переговоры уже путем личного свидания, обещая оказать свое всемерное содействие к благоприятному их исходу.
Должен заметить, что высокие комиссары все время переговоров не скрывали своих симпатий к представителям Политического центра и открыто подчеркивали недовольство поведением представителей правительства. Вечером состоялись личные переговоры с Ларионовым и Вагиным. Результатов никаких не дали. Мы решились прервать переговоры, но Ларионов и Вагин чуть ли не умоляли продолжить их завтра в 2 часа дня, уже совместно с полным составом Совета министров, продлить перемирие еще на 24 часа. Нами дано было согласие на продолжение переговоров, но перемирие согласились продлить лишь на 12 часов.
На следующий день, вместо назначенных в 2 ч[аса], Совет министров прибыл лишь в 6 ч[асов] вечера… Состав был таков: Червен-Водали, Бурышкин, Ханжин, Ларионов, Палечек[110] и от штаба Вагин. Червен-Водали повторил те же требования, что выставляли Ларионов и Вагин. Мы ответили отказом. Начался разбор по пунктам. Среди этого разбора принесли нам известие, что в городе начались грабежи. Перед этим я только что обратил внимание Червен-Водали и высоких комиссаров на то, что среди заседания вышел и более часу не возвращается военный министр Ханжин. Гарантирует ли Совет министров нам, что решение, которое здесь будет принято, не будет аннулировано военным министром, ибо, по-видимому, Совет министров – одно, а Сычев и Ко – другое правительство?