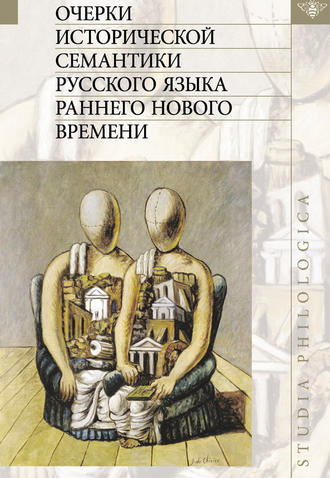
Полная версия
Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени
Развитие этой идеи куда труднее датировать, чем появление существительного purgatorium; никакой точной датировки здесь и быть не может. Два основных источника чистилищной парадигмы, а именно прорисовка промежуточного периода между смертью и Страшным Судом в «Диалогах» Григория Великого и распространение тарифицированного покаяния ирландскими монахами, появляются практически одновременно. Какой из этих источников первичен, не имеет принципиального значения [13]; очевидно, что в обоих случаях мы имеем дело с результатами существенного сдвига в религиозном сознании. В работе Питера Брауна [Brown 1999] утверждается, что в VII в. в западном христианстве существенно изменяется представление о переходе от жизни к загробному существованию. Начиная с видения ирландского визионера Св. Фурсея (630-е годы), путешествие души к ее потустороннему пристанищу начинает представляться как мучительная борьба, в которой ангелы и демоны сражаются за душу усопшего (научную публикацию текста видения и его интерпретацию см. [Carozzi 1994: 677–692, 99–139]). Демоны припоминают грехи, а ангелы указывают на покаяние и добрые дела. Это состязание сторон превращается в детальную калькуляцию, и человек должен всю жизнь готовиться к ней, как налогоплательщик в течение всего года готовится к представлению налоговой декларации. Данный перелом в мировосприятии связан с развитием нового представления о грехе. В рамках этого представления, по словам Брауна [Brown 1999: 309], «[t]he peccata levia came to be suffused with the same degree of interest as any other. These sins, also, demanded “purgation” – even if this purgation were no more than the daily recitation of the “Forgive us our trespasses” in the Lord’s Prayer and the traditional giving of alms».
Грехи требуют ежедневной калькуляции и ежедневного покаяния, соразмерного их тяжести. В эту калькуляцию входит и счет времени – времени земного и времени загробного, – поскольку тяжесть греха соотнесена с длительностью покаяния. Эта темпоральная калькуляция подчеркивается системой коммутаций, при которой длительности покаянного поста могут заменяться на различные иные епитимийные упражнения (коленопреклонения, чтение определенного числа псалмов и молитв, заказные мессы), в том числе и финансовые (отдача определенной суммы денег на бедных) [Vogel 1994а: 9–20]. Ле Гофф предполагает даже, на мой взгляд, не слишком убедительно, что время пургации, время загробного существования, контролировавшееся церковью, возмещало церкви утрату контроля над временем человеческой жизни [14].
Исповедь и покаянная калькуляция относятся к числу важнейших технологий личности (technologies of the self), конструирующих содержание ego в христианских культурных традициях ([Foucault 1988]; ср. [Foucault 1980]). Перечисляя совершенные за день грехи, кающийся занят самоанализом и памятью о себе. Приходя на исповедь к священнику, он превращает эту память о себе в нарратив, и это обеспечивает калькулируемую темпорализацию индивидуальной биографии. Калькулируемая темпоральность пронизывает тем самым всю религиозную жизнь средневекового западного общества. Хотя Реформация отказывается от католической сотериологии, связывая спасение не с перечнями добрых дел, а с верою, однако ментальные навыки калькулирования и нарративизации сохраняют свою значимость и в веберианской протестантской этике. Поэтому интериоризация временной калькуляции, являющаяся необходимой чертой капиталистической урбанистической культуры, развивается отнюдь не только в результате экспансии «времени купцов», но и в результате секуляризации сотериологической калькуляции западного христианства.
В этой перспективе вполне ясно видно отличие русского времени от западного в его сотериологическом измерении. Русское спасение совершенно безразлично ко всякой калькуляции, счетная парадигма к нему абсолютно не приложима. Этим русская сотериология радикально отличается от западной, причем отличается в той точке, которая особенно чувствительна для конструирования культурного пространства. Чистилищем, как известно, Восточная церковь не располагает и поэтому, не исключая посмертного прощения грехов по милости Божией (что делает осмысленными молитвы за усопших), никак не связывает это прощение ни с подсчетом грехов, ни с длительностью каких-либо искупительных процедур. В русских видениях того света могут, конечно, появляться бесы, указывающие на грехи обмершего и готовые тащить его в ад, однако состязания между бесами и ангелами, напоминающие судебное разбирательство, которые мы находим на Западе, начиная с видения Фурсея, в русских источниках отсутствуют (особой трактовки требуют мытарства Феодоры из византийского жития Василия Нового; сейчас нет возможности останавливаться на этом памятнике, исключительном и в византийском контексте). Таким образом, потусторонний мир в русских представлениях связан с вечностью, а не с временем и никакой темпоральностью искупления не обременен. Поскольку спасение на том свете никакого отношения ко времени не имеет, времени земного покаяния также не придается принципиального значения, временная калькуляция никакой сотериологической роли не играет.
Конечно, и у русских получает распространение тайная исповедь и духовники пользуются епитимийниками, соизмеряющими тяжесть греха с длительностью и суровостью наказания. Однако у русских не было ничего похожего на ту покаянную дисциплину, которая была характерна для латинского Запада и связана с западными сотериологическими представлениями. Можно сказать, что русские за редкими исключениями своих грехов не считали, потому что надеялись не на свою праведную жизнь и своевременное покаяние, а на милосердие Божие и в силу этого к исповеди ходили редко, а то и вовсе не ходили, откладывая покаяние до последнего часа, когда священнику было уже не до того, чтобы вникать в детали совершенных исповедником грехов и рассуждать о епитимьях. Хотя из-за недостатка документальных свидетельств в покаянных практиках средневековой Руси остается много неясного (ср. [Смирнов 1914]), наиболее правдоподобной (хотя и требующей дополнительных оговорок) представляется картина, которую реконструирует В. Жмакин для первой половины XVI в. на основании поучений митрополита Даниила. В. Жмакин пишет:
Весьма многие подолгу не обращались к таинству покаяния. Одни, выходя из понятия о бесконечной благости и милосердии Божием, успокоивали себя тем, что Бог всегда простит кающегося, и откладывали свое покаяние все далее и далее, желая пред смертью искренно раскаяться и получить прощение во грехах, сделанных в течение всей своей жизни {…} Находились и такие, которые, понимая слишком формально значение покаяния, обращали его в средство для оправдания своей безнравственности: они всю свою жизнь вели распущенно, и все-таки спокойно смотрели на свою загробную участь, надеясь на всеискупляющее действие последнего, предсмертного покаяния {…} В простом народе господствовал своеобразный взгляд на исповедь, по которому он считал ее делом князей и обязанностию благородных и знатных людей по преимуществу и на этом основании многие по долгу не обращались к таинству покаяния. Неправильный взгляд на значение таинства покаяния сопровождался в практической жизни анормальностями и выражался в том, что многие долгое время не исповедовались и не причащались по нескольку лет сряду, не считая это с своей стороны большим упущением. Особенно это развито было в низшей среде общества в массе народа. Даже люди набожные и те приступали к таинству покаяния однажды в год. Другие делали и того хуже: они являлись к духовнику на исповедь и утаивали пред ним свои грехи, а после даже хвастались этим, говоря с насмешкой: «что мы за дураки такие, что станем попу сознаваться»! [Жмакин 1881: 639–640].
Эта своеобразная картина восстанавливается преимущественно по обличительным и назидательным сочинениям, которые В. Жмакин использует не вполне критически, не принимая во внимание тот факт, что такого рода литература всегда по самому своему характеру сгущает краски. Сверх того, заключения Жмакина относятся лишь к мирянам и не относятся к монашествующим: по крайней мере в строгих общежительных монастырях исповедь должна была быть достаточно регулярной, а покаянная дисциплина более строгой. Однако в целом выводы Жмакина не кажутся преувеличенными; они находят частичное подтверждение в источниках другого типа [15].
Подобная нестрогость покаянной дисциплины находится в объяснимой связи с тем, что сведения о том свете, которыми могли руководствоваться русские, были в целом достаточно оптимистичными – во всяком случае при сравнении с западными. Хотя описания адских мук (прежде всего в «Хождении Богородицы по мукам» – славянском варианте Апокалипсиса Богородицы) пользовались определенной популярностью, однако сколь бы тяжкие нераскаянные грехи ни тяготили грешника, он все равно мог рассчитывать на милосердие Божие, на то, что в ад он не попадет. Милосердие Божие было безгранично и вполне иррационально [16]. В «Повести душеполезне старца Никодима о некоем иноке», сочинении середины XVII в., рассказывается о впадшем в грехи монахе, имевшем видение, в котором он очутился на том свете и бесы приносили ему свитки со списками его грехов. Никакого перечисления его добрых дел или состязания с ангелами за этим, однако, не последовало, но явился архангел Михаил, показал ему вечные муки и передал ему суд Божий, а именно три заповеди, при сохранении которых он избежит вечных мук («престани от нечистоты и не пити вина и табака»). Вернувшись в тело, инок некоторое время воздерживается, но затем вновь впадает в те же грехи, оказывается наказан язвой, однако не умирает и не попадает в геенну огненную, но исцеляется благодаря заступничеству чудотворной иконы Божией Матери в Нерехте [Пигин 2001: 303–310]. Грехи не мешают иноку спастись, скорее даже наоборот, они как бы стимулируют милосердие Божие, так что сочинитель повести цитирует апостола Павла, придавая данный своеобразный смысл его словам: «Идѣже умножися грѣхъ, ту преизбыточествова благодать» (Рим 5:20). В таком контексте, понятно, ада не слишком боялись, грехи не считали и за временем покаяния не следили [17].
За этим бесстрашием стояла определенная сотериологическая концепция или скорее совокупность не слишком четких сотериологических представлений. Спасение, когда о нем задумывались, в самых общих чертах понималось как сакрализация жизни, как постепенное всасывание жизни в вечность храма. Спасение было не делом человеческим, а делом Божиим. Спасение было разрастанием области преображенного бытия, явленного в храме, поглощением временности жизни вечностью Царства Небесного, присутствующего в богослужении. С человеческими усилиями этот процесс был слабо связан, православные должны были лишь поддерживать храмовое действо в его чистоте и непрерывности, чтобы Святой Дух преображал и благотворил земное бытие. Ничего большего в общем-то от православного не требовалось, все остальное – регулярное покаяние, аскеза, дела милосердия, богословские откровения – было факультативной добавкой, необходимой лишь для тех, кто сделал спасение своим профессиональным занятием, т. е. для монахов. Так называемое обрядоверие русского православия есть частное следствие данной сотериологии.
Сотериологическая концепция, по мысли Вебера, которая может оспариваться в частностях, но сохраняет значение в общем плане, определяет социальный проект, который развивается данным обществом. Этот проект может секуляризоваться и в секуляризованном виде быть долговечнее своих религиозных оснований. Такой проект может быть приписан и протестантскому (как кальвинистскому, так и лютеранскому) обществу (о чем в сущности и писал М. Вебер), и католическим социумам (ср. [Kharkhordin 2005: 43–48]); в любом из этих вариантов он связан с апроприацией времени индивида той общиной, которая ведет его к спасению. У русских спасение никакой социальной организации не требует, и поэтому темпоральность ни малейшего отношения к нему не имеет. В результате в рамках русского понимания спасения время никто не апроприирует, оно не нуждается в социальном регулировании. Ни церковь, ни государство не заняты организацией времени индивида, не задают ему распорядок жизни. Время государственной жизни течет по традиции, время церкви – по пути, определенному для него Божественным Промыслом, который в ведомые ему сроки завершит его ход и приведет православных христиан в Царствие Божие.
Новое время в России и его апроприация. Катастрофой для описанного выше традиционного православного мировосприятия стало Смутное время. Божественный Промысел повернул историю совсем не туда, в какую-то скверную сторону, и из литургического преображения бытия ничего не вышло. Характерно, что в связи с трагическими событиями Смуты в русской духовной культуре происходит всплеск визионерства и появляются многочисленные новые видения с мрачными предсказаниями и призывами к покаянию [Пигин 2006: 15; Успенский 1914; Прокофьев 1964] – притом, что в предшествующий период посещения того света относительно редки, а жанр видений пользуется лишь ограниченной популярностью. С катастрофы Смутного времени и начинается, видимо, Новое время в России (ср. [Флоровский 1988: 57–58]) [18]. Обнаружилось, что время само по себе в вечность не втечет, его надо направлять. Это существенно меняло понимание времени и вместе с тем ставило вопрос, кто должен этим заниматься, кто возьмет время в свои руки. Отсюда возникает первая коллизия традиционного порядка и нового временного устройства.
В 1630-е годы наиболее яркой фигурой из числа взявшихся за исправление традиционного неблагочестия был Иоанн Неронов (его житие см.: [Материалы I: 243–305]; см. о нем также: [Pascal 1938: 35–73; Зеньковский 1970: 74–90; Живов 2002: 323–333]). Как пишет С. А. Зеньковский,
Деятельность Неронова по объяснению смысла учения Христа была чем-то совсем необычным и даже революционным для церковных нравов Руси того века. Проповеди этого нового и «революционного» священника не носили отвлеченного характера и были доступны каждому посетителю и прихожанину храма. – «Начаша прихожане слушати Божественного пения, и найпаче слушаще поучения его наслаждахуся», – говорит его биограф {…} «Иоанн же, почитавше им божественные книги с рассуждением и толковаше всяку речь ясно, и зело просто, слушателям простым. Поучая народ, кланяшеся на обе стороны до земли, со слезами моля дабы вси, слышаще, попечение имели всеми образы о спасении своем» [Зеньковский 1970: 78–79].
Призывы Неронова к покаянию и религиозной дисциплине, в ряде отношений напоминающие деятельность протестантских проповедников – реформаторов, хотя и встречали сопротивление со стороны части консервативного духовенства и не желавших заботиться о своей душе прихожан, пользовались определенным успехом. Свидетельством может служить челобитная девяти нижегородских священников патриарху Иоасафу 1636 г., одним из авторов которой и, можно полагать, вдохновителем был Неронов; на основе этой челобитной была составлена затем «Память» патриарха Иоасафа для московских и подмосковных церквей, отчасти придававшая официальный статус реформаторской программе Неронова и его единомышленников.
В данной челобитной необходимость реформации недвусмысленно связывается с теми испытаниями, которые пережила Русь в Смутное время и которые неминуемо обрушатся на нее опять «грех ради наших». Здесь говорится: «Во истину гсдрь образ Бжïи и сновство обругахом и пременихомся ко дщерем сатанинским – ко злым его прелестемъ, и не ощущаемъ Ноева члвка, сïирѣч званïя Хрсва, творим злая, прïидут ли на ны блгая? Чего не пострадахом? не пленена ли земля наша? не взяти ли гради наши? не падоша ли без оружïя? не помроша ли скоти и не оскудѣша ли нивы? Сïя гсдрь вся ннѣ содѣяся пред очима нашима в наше наказанïе, и никако ж воспомянухомся» [Рождественский 1902: 27] [19]. В этом обстоянии православные должны покаяться и перестать впадать хотя бы в наиболее тяжкие прегрешения, в качестве которых нижегородские священники рассматривают «бесовские» скоморошеские и святочные игры, лжеюродствование и неблагочестивое поведение во время богослужения.
Одним из существенных моментов в этом роковом падении нравов оказывается самовольное нарушение богоустановленного временного порядка. Реформаторы жалуются патриарху на леность и небрежение духовенства:
[В]ечерни гсдрь отпѣвают многïя попы по црквам до перваго часа дни на розсвѣте, а инïи до солнечнаго возходу, и в молитвах гсдрь не ощущаютъ, поют пооутру: пришедшу слнцу на запад, а слнце еще въсходит, и возвышают глас къ Бгу: видѣвше свѣт вечернии, поем Отца и Сна и Стаго Дха Бга, и говорят: сподоби Гсди в вечер сей без грiха…, а еще гсдрь и слнце в дневныя чреды не постигло {…} вечер и заоутра и полудне поем и блгословим, данными гсдрь велелѣпными хвалами, ими ж гсдрь ты великïй стль и сам возвещаеши, яко поется Бгъ в коеждо время подобными времянъми млтвами во свое их время, по преданïю стых апслъ и стых отцъ и вас гсдрей; и тѣ гсдрь законы данныя, лѣности ради, во едино время отпѣвают: пооутру просятъ гсдрь дне сего совершенна, да в то ж время вечера сего совершенна просят, а еще гсдрь днь настает, и таковою гсдрь ложью и лѣностïю хотим оумилостивити Бга и людем блгодати испросити {…} Видим гсдрь в наставницех и в црьквах неисправленïе, и оттого им смущается оумъ и скудѣет вѣра, потому что гсдрь вожди ослепоша лѣностïю и нерадѣнïем исправленïя црьковная погасиша [Рождественский 1902: 21–22].
Тяжким грехом оказывается, таким образом, отступление от богоустановленного временного порядка, реализующегося в богослужении; церковная власть должна этот порядок контролировать, не допуская подобных отступлений.
В нижегородской челобитной появляется и тема многогласия, борьбу с которым следует рассматривать в этом же реформационном контексте. В челобитной говорится: «Въ црквах гсдрь зѣло поскору пiнïе, не по правилом стых отцъ ни наказанïю вас гсдрей, говорятъ голосов в пять и в шесть и боле, со всяким небрежением, поскору» [Там же: 19]. Введение единогласия было затем одним из важных элементов реформаторской программы так называемых ревнителей благочестия или боголюбцев во главе с духовником Алексея Михайловича Стефаном Вонифатьевым. Единогласие противостояло традиционному многогласию, т. е. такой богослужебной практике, при которой одновременно читались разные части службы. Многогласие позволяло выполнить все предписания устава, т. е. вычитать все необходимое в обозримое время. Что-нибудь при этом понять и услышать из-за шума множества голосов было почти невозможно. Для традиционного сознания это и не было столь важно, поскольку богослужение было обращено не к пастве, а к Богу, а Бог может одновременно воспринять неограниченное число молений и славословий. Теперь же боголюбцы задаются вопросом: «кая же польза получити предстоящим в церкви людем во время божественнаго пения, егда в гласа два или три и множае вдруг говорят, – никако ничесого, точию шум всуе, и без пользы, и пагуба с великим грехом» [Каптерев 1909, 1: 88]. Это новое понимание, разрушительное для традиционной сотериологии. Спасение ставится в зависимость от индивидуального благочестия, и духовные вожди хотят апроприировать время индивида, чтобы направить общество на путь спасения. Индивиды, включая традиционное духовенство, сопротивляются, в основном по прагматическим причинам [20], поскольку богослужение оказывается бесконечно долгим, способным скорее отпугнуть прихожан, нежели привить им новое благочестие. Борьба за единогласие растягивается на несколько лет, и реформаторы побеждают только в преддверии кончины патриарха Иосифа (окончательное решение на соборе 1651 г. – см.: [Каптерев 1909, 1: 104–105]). Эта конфронтация показывает, что время перестает быть иррелевантным для спасения, оно вторгается в вечность храма, становится предметом борьбы и вследствие этого предметом счета и апроприации.
Алексей Михайлович в качестве православного монарха поддерживает усилия религиозных реформаторов; само движение боголюбцев приобретает вес прежде всего в силу того, что ему сочувствует (и отчасти с ним идентифицируется) молодой царь. Однако у царя есть и другие обязанности. Спасение, согласно мысли ревнителей благочестия, невозможно вне реформированного православия, и Алексей Михайлович помогает его реформировать, но ни реформа, ни само спасение не могут существовать вне государства, попечение о котором, как представлялось и самому Алексею Михайловичу и его соратникам, Бог отдал избранному Им царю. Тишина, порядок и благочестие вверенного царю народа требуют царских забот, и Алексей Михайлович этим и занят. В первый период его царствования, до удаления патриарха Никона, эти занятия носят двойственный характер. С одной стороны, он как бы включается в деятельность боголюбцев, поддерживая единогласие и выпуская, например, антискоморошеский указ от 5 декабря 1648 г. – в полном соответствии с реформистской программой боголюбцев (см.: [Pascal 1938: 161–165; Зеньковский 1970: 133–143]). Понятно, что, включаясь в эту деятельность, царь постепенно подчиняет ее себе, что в конце концов и приводит к конфликту с патриархом Никоном.
С другой стороны, установление порядка требовало и секулярного регулирования, бюрократизации и рационализации административной деятельности. Этой цели служило, в частности, Уложение 1649 г. В Уложении есть статья о выходных днях приказных служащих (гл. X, ст. 25):
А в воскресной день никого не судить, и в приказех не сидеть, и никаких дел не делать, опричь самых нужных государственных дел. Да суда же не судить и никаких дел в приказех не делать, опричь великих царьственых дел: в день Рождества Христова, в день святаго Богоявления и в ыные господьские праздники, Сырная неделя, первая неделя великого поста, Страстная неделя, седмь дней по Пасце. Да в которыи день приспеет праздник день рождения государя царя и великаго князя Алексея Михаиловича всея Русии, и его благоверные царицы и великие княгини Марии Ильичьны, и их благородных чад [Уложение 1987: 33–34].
Как можно видеть, эта статья делит время государственного служащего на две части: одна часть предназначена для религии, другая – для государственных дел. Идея регламентации времени, утвердившись в церковной деятельности, проникает и в деятельность государственную. В данной статье две сферы – сакральное время праздников и будни чиновника – трактуются как соотнесенные. При этом сакральное время рассматривается как нечто выкроенное из обычного времени, выделенное государством для Бога из своих собственных запасов. Время оказывается, таким образом, апроприированным государством, которое платит за него и им распоряжается, не оставляя служивому человеку простора не только для личной жизни, но и для длительных церковных стояний [21]. В принципе, понятно, в подобной регламентации ничего специфически русского не было, это был необходимый элемент модернизации управления, известный всем государственным структурам Нового времени. Специфична была социальная композиция того общества, в котором осуществлялась эта регламентация. Как уже говорилось, автономной городской культуры в Московской Руси не было; город как локус культуры составлялся из служилого класса и духовенства. Поэтому время службы становилось временем секулярной культуры. Секулярная регламентация этого времени не могла не вступить в конфликт с религиозным реформаторством, претендовавшим на распоряжение часами и днями не одного духовенства, но и всех православных.
До времени этот конфликт не был заметен. Когда, однако, произошел разрыв царя с патриархом, Никон не замедлил указать, что церковным временем царь распоряжаться не в праве. Он писал, обращаясь, естественно, не к самому царю, а к боярину Никите Одоевскому, составлявшему Уложение:
О пребеззакониче и злобѣсный человѣче, како не устыдѣся, не устрашися. Бѣси того исповѣдаху Сына Божия и Бога, глаголаху: почто еси, Сыне Божий, пришел еси прежде времени мучить нас. А ты, злострастный человѣче, не исповѣда Того Бога быти и Господа нашего Iисуса Христа, аки проста человѣка пишеш: в’ воскресной день, в’ день Рожства Христова {…} Не усохлъ бы скверный твой язык изглаголати или написати: Рождество Господа Бога и Спаса нашего Iисуса Христа, или святое Богоявление Господа Бога и Спаса нашего Iисуса Христа. И ниже праздник нарече, но день. А яже о царi, да в который день приспѣет праздникъ, день рождения государя царя и прочее, такожде и о царицЬ и о ихъ чадѣхъ. Которыя праздники, которое таинство? Развѣ что любо страстно и человѣческо. И во всемъ приподобилъ еси человѣковъ Богу, но и предпочтеннѣ Бога (РГАДА, ф. 27, № 140, ч. III, л. 569–570 об.).
Здесь следует обратить внимание на два момента. Во-первых, Никон обвиняет Одоевского в том, что он приравнял государственные праздники (дни рождения царя и его семейства) к религиозным праздникам. Вряд ли Никон ставит под сомнение право царя объявлять выходные дни на свое рождение. Он протестует против неразличения сакрального и секулярного времени. В том, что рождение царя оказывается в одном перечне с Рождеством Христовым, Никон видит богопротивные притязания светской власти, которая наделяет себя правом распоряжаться всем временем – как сакральным, так и секулярным. С точки зрения же Никона, Божии праздники установлены Богом, соблюдение их – первый долг христиан, и царь не должен вмешиваться со своими распоряжениями в предписания Божественного закона. Таким образом, секуляризация времени незамеченной не остается.









