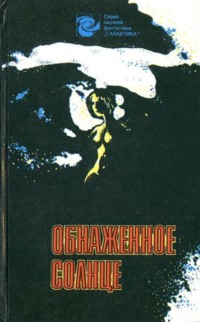Полная версия
Диагноз смерти

Амброз Бирс
Диагноз смерти
© С.Б. Барсов, перевод, 2021
©А. Лиманова, иллюстрации, 2021
© ЗАО «Центрполиграф», 2021
© Художественное оформление ЗАО «Центрполиграф», 2021
Письмо от переводчика читателю
Не стану пересказывать Вам биографию Амброза Бирса. Во-первых, Вы без труда отыщете ее в монографиях и других сборниках Бирса, во-вторых, на паре страниц не больно-то распишешься, а биография у него богатейшая. Писать же о большом человеке мелким шрифтом просто нехорошо.
Скажу лишь, что переводить Бирса было трудно. И дело тут не в языке его и не в сложной, скажем, композиции рассказов. Язык у Бирса простой и ясный. Да и в композиции он без нужды не изощряется, а нужда такая возникает нечасто. Дело в том, что он может взять совершенно водевильную ситуацию и начать рассказ этаким, знаете ли, разухабистым языком, а закончить самой настоящей трагедией. А что такое трагедия, Бирс знал не понаслышке: ему была судьба надолго пережить обоих своих сыновей.
И все-таки без некоторых кусочков его биографии нам не обойтись. У Бирса, надо Вам сказать, была привычка все доводить до конца, причем любой ценой. В 1961 году он ушел на гражданскую войну рядовым армии северян, а демобилизовался через четыре года в чине майора. Дослужился бы, наверное, и до генерала, если бы не тяжелые ранения. А служил он не у кого-нибудь, а у Шермана. Занявшись после войны журналистикой, он довольно скоро из простого репортера стал известным и влиятельным колумнистом, а затем – de facto главным редактором «Сан-Франциско Экзэминер», популярнейшей газеты американского Запада. Газетой же владел не кто-нибудь, а Херст. Литературное наследие Бирса собрано в двенадцать полновесных томов – это итог сорока с лишним лет творческого труда. Они издавались за счет автора с 1909 по 1912 год и вышли мизерным тиражом – 250 экземпляров, – но все-таки вышли. И здесь – то же стремление довести дело до конца, подвести итог.
У привычки доводить дело до конца есть и другая сторона, неотъемлемая, как аверс монеты неотделим от ее реверса. Это стремление начинать заново. Подтверждением этому служит вся жизнь Бирса: он работал и официантом в заведениях, которые иначе как кабаками не назовешь, и разнорабочим на кирпичном заводе, и рекламным агентом, и учеником печатника. Службу в армии он начал барабанщиком, а закончил офицером-топографом. Оставшись после войны не у дел, стал журналистом и писателем. Уже в семьдесят он отправился простым военным корреспондентом на новую гражданскую войну, в Мексику, где его жизнь, судя по всему, и закончилась. Он пропал, растворился. Никто не знает, как он погиб и где похоронен. А может, Бирс в очередной раз начал жизнь заново?
Но он «начал заново» куда больше, чем сам мог предполагать. В первую очередь я имею в виду по-репортерски краткие описания так называемых необъяснимых происшествий. Они составили целый цикл, и именно с них началась целая литература, отцом которой почему-то считают Чарльза Форта. Еще Бирс стал одним из пионеров – или вернее будет сказать «фронтиреров»? – научной фантастики. А проблема, за которую он взялся и, по-моему, блистательно решил, до сих пор считается одной из сложнейших: отношения человека и машины. Разумной машины. И о невидимости он написал за несколько лет до Герберта Уэллса. Учеников у Бирса не было, но учились у него многие. Я, например, никак не могу отделаться от впечатления, что с творчеством Бирса был хорошо знаком Александр Грин. Говард Лавкрафт, Рэй Брэдбери и Стивен Кинг не раз писали о том, что многим обязаны Бирсу.
Скажу еще несколько слов о сборнике, который Вы держите в руках. На сегодняшний день это самый «объемистый» Бирс на русском языке, хотя у книги малый формат и в нее вошли далеко не все рассказы мэтра. Более половины рассказов, которые мы Вам предлагаем – а всего их сорок пять, – никогда у нас не издавались, хотя, верьте слову, ни в чем не уступают тем, что считаются хрестоматийными.
О себе скажу лишь, что мне крупно повезло: переводить Бирса – более удовольствие, нежели работа. Смею надеяться, Вы скажете примерно то же, когда прочтете эту книгу.
Остаюсь всегда к Вашим услугам
Сергей БарсовПастух Гайта

Ни возраст, ни жизненный опыт еще не вытеснили из души Гайты юношескую наивность. Его помыслы были чисты и свежи – ведь жил он просто и честолюбие его не снедало. Вставал он вместе с солнцем и перво-наперво преклонял колена перед алтарем пастушеского бога Астура. Тот слышал молитвы Гайты и благоволил к нему. Отдав долг благочестия, Гайта отворял ворота загона и вел свое стадо на пастбище, откусывая то от куска овечьего сыра, то от овсяной лепешки. Временами он останавливался, чтобы сорвать несколько ягод, влажных от студеной росы, или глотнуть воды из ручья, бегущего меж холмов к реке, что текла по долине неведомо куда.
Долгими летними днями, пока овцы его щипали сочную траву, ниспосланную им богами, или лежали с поджатыми под себя ногами, перетирая зубами жвачку, Гайта сидел на камушке или в тени раскидистого дерева и играл на тростниковой свирели. И так прекрасны были его мелодии, что послушать их порой являлись из своих рощ маленькие лесные божества. Гайта временами видел их, но только краем глаза: ведь стоит взглянуть на них прямо, их и след простынет. Это навело Гайту на мысль – ведь временами ему приходилось думать, чтобы не уподобиться своим овцам, – что счастье может быть лишь нежданным, а если станешь искать его нарочно, нипочем не найдешь. Здесь еще надо сказать, что после благоволения Астура, которого никто никогда не видел, Гайта больше всего ценил привязанность своих застенчивых бессмертных соседей, населявших рощи, ручьи и озера. Ближе к вечеру он приводил стадо в загон, накрепко затворял ворота и шел к себе в пещеру – подкрепиться и отдохнуть.
Вот так и текла его жизнь, и ни один из ее дней не отличался от другого, если только кто-то из богов, чем-то разгневанный, не насылал бурю. Тогда Гайта забивался в самую глубь своей пещеры, закрывал лицо руками и молил гневного бога наказать его одного, а весь прочий мир помиловать. Иногда – после ливней – река выходила из берегов. Тогда Гайта уводил перепуганных овец на горные склоны и молил силы небесные пощадить жителей городов, лежащих, по слухам, на равнине по ту сторону голубых холмов, что сторожили вход в его родную долину.
– Ты очень добр ко мне, о Астур, – говорил он богу. – Ты создал горы, чтобы я с моим стадом мог там спасаться от наводнений. Но ты должен как-то позаботиться и обо всем остальном мире, а то я перестану тебе поклоняться.
И Астур, зная, что слово юного Гайты твердо, щадил города и направлял воды к морю.
Вот так Гайта и жил с тех пор, как помнил себя. И другой жизни даже представить не мог. В глубине долины, в часе ходьбы от пещеры Гайты, жил святой отшельник. Он рассказывал юноше о больших городах, где у жителей – вот ведь бедняги! – нет ни единой овцы, но ни слова не мог сказать о тех временах, когда Гайта был маленьким и беспомощным, как только что родившийся ягненок. А ведь было же это когда-то.
Приходилось Гайте размышлять и о страшной перемене, о переходе в мир молчания и разложения. Он полагал, что и ему не миновать этой участи, и его овцам тоже, да и всем живым созданиям, кроме, разве что, птиц. После таких раздумий Гайта начинал считать, что судьба ему определена горькая и безысходная.
– Надо же узнать, откуда и как я взялся на свете, – говорил он себе. – Как мне исполнить свое предназначение, если даже не знаю толком, в чем оно заключается и кем на меня возложено? И как мне жить, если я не знаю, сколько еще продлится моя жизнь? Ведь может же так случиться, что страшное превращение постигнет меня еще до завтрашнего утра? Что тогда будет с моими овцами? А со мною самим?
Из-за мыслей этих Гайта сделался чернее тучи. Овцы больше не слышали от него доброго слова, да и к алтарю Астура он шел без особой охоты. В каждом вздохе ветра ему слышались шепоты злых божеств, о которых он прежде даже не подозревал. Всякое облачко казалось предвестником беды, а ночная тьма преисполнилась ужасами. А когда он подносил к губам свирель, сильваны и дриады уже не спешили послушать его, а уносились прочь от тоскливого воя, сменившего нежные мелодии – об этом можно было догадаться по сломанным веткам и примятым цветам. И за стадом своим он уже не следил с прежним тщанием, так что многие овцы сгинули, заблудившись в холмах. Те же, что остались, совсем захирели от бескормицы – ведь Гайта больше не искал для них новых пастбищ с сочной травой, а водил их на одно и то же место, да и то по привычке. Все мысли пастуха вертелись вокруг жизни и смерти – о бессмертии же он слыхом не слыхивал.
Но в один прекрасный день он прервал свои размышления, вскочил с камня, взмахнул рукой и воскликнул:
– Я больше не буду умолять богов о знании, которое они не желают мне давать! Пусть-ка они сами направляют путь мой. Я же буду исполнять предназначение в меру разумения своего, а если ошибусь, так и виноваты будут они, а не я!
И стоило ему сказать это, как все вокруг озарилось ярким светом. Он глянул вверх, решив, что это солнце выглянуло в просвет меж облаками, но небо было безоблачно. Совсем рядом, буквально рукой подать, стояла чудесная дева. И так она была прекрасна, что цветы у стоп ее закрывались и склоняли головки, не в силах соперничать с ее красотой. Весь облик девы был исполнен такой сладости, что у ее глаз вились колибри, едва не касаясь ресниц своими клювиками, а близ губ роились дикие пчелы. Вся дева так ярко сияла, что от всего, что было вокруг, протянулись длинные тени, пляшущие при каждом ее движении.
Гайта был очарован. Восхищенный, он пал перед девой на колени, и она положила свою руку на его чело.
– Встань, – сказала она голосом, который был звонче всех бубенцов его стада. – Ты не обязан мне поклоняться: ведь я не богиня. Но если я уверюсь, что ты надежен, я останусь с тобою.
Гайта схватил ее за руку, но от радости слова не шли с его уст. Они просто стояли, держась за руки, и улыбались друг другу. Гайта не мог отвести от девы взора, полного обожания. Наконец он промолвил:
– Умоляю тебя, о прекраснейшая, скажи мне, кто ты, откуда пришла и зачем!
При этих словах дева приложила к губам палец и начала исчезать. Ее чудесный образ менялся на глазах, и Гайта задрожал. Он не мог понять, откуда эта дрожь – ведь дева была по-прежнему прекрасна. Все вокруг тоже переменилось, потемнело, словно какая-то огромная птица простерла крыла над всею долиной. В этом сумраке очертания девы размылись, а когда она заговорила, Гайте показалось, что голос ее, полный печали и укоризны, доносится из дальней дали.
– Ты, юнец, самонадеян и неблагодарен! Почему ты заставляешь меня уходить так скоро? Неужели ты не мог придумать ничего лучшего, чем сразу же нарушать извечное согласие?
Гайта, невыразимо опечаленный, снова пал на колени, умоляя деву не уходить. А потом вскочил на ноги и долго искал деву в сгустившейся тьме – бегал кругами, громко призывал ее, но все это вотще. Дева совершенно скрылась во мраке, и только голос ее донесся до пастуха:
– Не ищи меня, все равно не найдешь. Возвращайся к своему стаду, маловерный пастух, или никогда больше меня не увидишь.
Опустилась ночь. Где-то неподалеку, в холмах, завыли волки, перепуганные овцы сбились в кучу у ног пастуха. Вспомнив о деле, Гайта даже забыл об утрате и вскоре привел стадо в загон. Затворив ворота, он пошел к алтарю и вознес Астуру горячую хвалу за то, что помог спасти овец. Потом он вошел в свою пещеру и там улегся спать.
Когда Гайта проснулся, ему показалось, что солнце поднялось уже высоко и засвечивает в пещеру, от чего она вся сияет. А потом увидел, что неподалеку сидит чудесная дева. Она улыбнулась Гайте, и в этой улыбке ожили все мелодии его тростниковой свирели. Он же не смел разомкнуть уста, чтобы не спугнуть ее, как вчера, неучтивым словом. Так и сидел, не зная, что ему делать.
– Я вернулась к тебе потому, – заговорила дева, – что ты сберег свое стадо и не забыл восславить Астура за то, что он спас овец от волков. Примешь меня теперь?
– А кто бы тебя не принял? – ответил Гайта. – О, не покидай меня до страшной перемены, до тех пор, пока я… пока я не сделаюсь недвижным и безмолвным. – Слово «смерть» было ему неведомо. – Мне бы хотелось, чтобы ты тоже была мужчиной, тогда мы могли бы бороться и бегать наперегонки. И никогда бы друг другу не надоели.
Услышав такое, дева поднялась и вышла из пещеры. Гайта вскочил со своего ложа из душистых ветвей, собираясь ее догнать, но тут с изумлением обнаружил, что вовсю хлещет ливень и река вышла из берегов. Овцы испуганно блеяли, и неспроста – вода подступила к самой ограде загона. Да и неведомым городам на равнине грозило потопление.
Только через много-много дней Гайта увидел деву снова. Он как раз возвращался от обиталища святого отшельника, относил ему овечьего молока, овсяную лепешку и немного ягод, а то старец совсем ослаб и не мог уже сам себя пропитать.
– Бедный старик! – говорил себе Гайта, шагая по знакомой тропе. – Завтра же посажу его на спину и отнесу в мою пещеру буду за ним присматривать. Теперь я понимаю, зачем Астур все эти годы пестовал меня, для чего дал мне здоровье и силу.
И едва он так сказал, как на тропе перед ним появилась дева в сияющих одеждах. Она так улыбнулась Гайте, что у него дыхание занялось.
– Вот я и пришла к тебе опять, – сказала она. – Я хотела бы жить с тобой, если ты примешь меня… а то все меня отвергают. Надеюсь, ты стал мудрее, и примешь меня такой, какова я есть, ни о чем не расспрашивая.
Гайта бросился ей в ноги.
– О прекраснейшая! – воскликнул он. – Если ты снизойдешь до меня и примешь всю преданность моего сердца и души моей, – кроме той, что отдана Астуру – они твои на веки вечные. Но увы! Ты так своенравна, так ветрена. И наверняка исчезнешь еще до утренней зари. Умоляю, обещай никогда не бросать меня, если даже я вдруг по невежеству чем-то тебя обижу.
И стоило ему сказать это, как с холма спустились медведи и пошли на него, оскалив зубы и свирепо поблескивая глазами. Дева куда-то пропала, а Гайта побежал со всех ног, спасаясь от неминучей гибели. Ни на миг не останавливаясь, добежал он до хижины отшельника, откуда ушел совсем недавно. Он поспешно затворил за собой дверь, упал ничком и разрыдался.
– Сын мой, – сказал отшельник со своего ложа, которое Гайта этим утром устроил ему из свежей соломы, – я не думаю, что ты стал бы убиваться из-за этих медведей. Расскажи, что за беда с тобой случилась. Может быть, я смогу залечить твои раны бальзамом мудрости, который старцы накапливают за долгие свои годы.
Гайта рассказал ему, как он трижды встречал осиянную деву и трижды терял ее. Он передал все в точности – каждое движение, каждое слово.
Когда он закончил, отшельник недолго поразмыслил, а потом сказал:
– Сын мой, я хорошо понял каждое твое слово. Я знаю эту деву, мне случалось ее видеть, да и не мне одному. Знай же, что имя ее, о котором она не велит спрашивать, – Счастье. Ты верно сказал, что она ветренна: она требует от человека такого, что не каждому под силу, а стоит чуть оплошать – и нет ее. Она является, когда ее не ждешь, и терпеть не может любопытных. Стоит ей заметить малейшее сомнение, и она исчезает! Долго она оставалась с тобою?
– Только на краткий миг, – ответил Гайта, покраснев от смущения. – Мгновение – и она исчезала.
– Бедный ты мой! – воскликнул отшельник – Если бы ты был осмотрительнее, мог бы удержать ее на целых два мгновенья!

Тайна долины Макарджера

Долина Макарджера лежит милях в девяти к северо-западу от Индейского холма. Ее и долиной-то трудно назвать, скорее уж ложбинкой меж лесистых возвышенностей. Протяженность ее, если считать от устья до верховьев – у долин ведь, как и у рек, есть своя морфология – не более двух миль, и ни в каком месте она не бывает шире двенадцати ярдов. По дну ее течет ручей, он весьма полноводен в зимние месяцы, но уже ранней весной он начинает пересыхать; вот его русло и разделяет пологие склоны, густо поросшие толокнянкой и цепким колючим кустарником. В долину Макарджера сейчас никто даже не заглядывает, если не считать самых неугомонных из окрестных охотников. А милях в пяти о ней и спрашивать бесполезно – никто ее попросту не знает, равно как и того, почему она так называется. В тех местах далеко не все географические объекты удостоились собственных имен, а ведь большинство из них куда примечательнее, чем долина Макарджера.
Если вы пойдете от устья вдоль долины Макарджера, то миль через шесть обнаружите еще одну долину, короткую и сухую, которая прорезает правую цепь холмов. Там, где две долины пересекаются, образовалась ровная площадка в два, много три акра. Вот на ней-то еще несколько лет назад стояла полуразрушенная домушка, точнее сказать, одна комната, огороженная дощатыми стенами. Не стоит, наверное, выяснять, как удалось выстроить жилье, пусть даже такое убогое, в столь отдаленном и труднодоступном месте – гадать можно сколько угодно, но толку будет мало. Может быть, пересохшее ложе ручья кому-то когда-то служило дорогой. Известно ведь, что некогда тамошние горы исследовались довольно подробно, а значит, надо было как-то доставлять туда провиант и инструменты, да и рудокопов тоже. Но в окрестных горах, похоже, не нашлось ничего, что позволило бы покрыть затраты на сооружение дороги, которая связала бы долину Макарджера с каким-никаким городком, в котором есть лесопилка. Но домик в долине все-таки стоял, вернее, то, что от него осталось. У него не было уже ни двери, ни оконной рамы, а дымовая труба, сложенная из камней на глине, осела уродливой грудой, поверх которой буйно разрослись сорняки. Если в домушке и была когда-то мебель, то она давно уже сгорела в охотничьих кострах, равно как и многие доски со стен. Такая же участь, надо полагать, постигла и колодезный сруб неподалеку от хижины: к тому времени, о котором пойдет речь, место колодца отмечала только яма, большая, но не очень глубокая.
Летом 1874 года и меня занесло в долину Макарджера – я пришел туда, следуя высохшему руслу ручья. В тот день я охотился на перепелов, и в моем ягдташе уже лежала добрая дюжина тушек. Тут-то я и увидел эту хижину, о которой, кстати, раньше слыхом не слыхивал. В первый раз я не удостоил ее пристальным вниманием, а снова занялся перепелами. День был на редкость удачный, я проохотился почти до самого заката и только тогда сообразил, что забрался очень далеко и до людского жилья мне засветло не добраться. Впрочем, дичи в моем ягдташе было вдоволь, а переночевать я мог в заброшенном домишке. Теплой ночью, если нет дождя, в горах Сьерра-Невады можно спать без одеяла, а за перину вполне сойдет сосновый лапник. Одиночество скорее привлекает меня, чем тяготит, да и летние ночи я люблю, так что решать мне долго не пришлось. Еще не стемнело, а у меня уже было готово в углу довольно мягкое ложе, а на костре поспевал перепел. От костра потягивало дымком, да и света мне вполне хватало. Этот скромный ужин – дичь и немного вина, которым я весь день, за неимением воды, утолял свою жажду, – доставил мне такое удовольствие, какое я редко испытывал, пользуясь благами комфорта и изысканной кухней.
И все-таки ощущалось там нечто странное. Я был доволен, спокоен и в то же время чего-то опасался – то и дело без видимого повода посматривал то на дверной проем, то на оконный. И с каждым взглядом в ночную тьму во мне росла тревога, причину которой я плохо понимал. Фантазия населяла мир за стенами лачуги врагами, как вполне обычными, так и потусторонними. Из первых более всего стоило опасаться гризли – мне говорили, будто они все еще попадаются в тех местах; из вторых же, пожалуй, призраков, хотя уж им-то здесь неоткуда было взяться. Но чувства наши, к сожалению, не всегда в ладу с холодным рассудком, потому я одинаково опасался и возможного, и невозможного.
Всякому, кто оказывался в похожих обстоятельствах, наверняка известно, что ночные страхи – как рациональные, так и иррациональные – куда сильнее одолевают в замкнутом пространстве, чем под открытым небом. Сам я в полной мере понял это, лежа на постели из лапника и глядя на угасающий костер. Как только в нем померк последний уголек, я схватил свое ружье и направил дуло в сторону дверного проема. Я взвел курок и затаил дыхание, все мое тело напряглось. Впрочем, скоро я устыдился своей паники и отложил ружье. Чего тут было бояться? Да и чего ради? Ведь ночь мне была «…знакома много лучше, чем образ человечий…».
Склонность к разного рода суевериям, свойственная всем людям, у меня, надо признаться, была развита особо, хотя одиночество, мрак и тишина скорее влекли и чаровали меня, чем пугали! Размышляя над тем, что могло так меня встревожить, я незаметно задремал. И мне приснился сон.
Я был в большом незнакомом городе, явно в другой стране. Ее жители принадлежали к какой-то родственной нации: их одежда и язык мало отличались от моего. Но я все-таки никак не мог понять, кто они, да и видел их как-то смутно, будто сквозь дымку. В самом центре города возвышался большой замок. Его название было мне известно, вот только выговорить его я не мог. Я шел по улицам города – то по широким и прямым, с большими зданиями современной постройки, то по мрачным и извилистым, стиснутым старыми домами с крутыми крышами. Порой мне казалось, что верхние этажи, украшенные резьбой по дереву и камню, смыкаются над головой.
Я кого-то искал. Человека этого я никогда не видел, но почему-то был уверен, что узнаю его, едва встречу. Причем искал я отнюдь не наудачу, а вполне методично: я уверенно поворачивал на перекрестках и проходил лабиринтом переулков, нимало не опасаясь заблудиться.
В конце концов я остановился перед невысокой дверью ничем не примечательного кирпичного домика, в котором, скорее всего, жил какой-то ремесленник не из самых бедных. Я вошел в нее, не дав себе труда постучать. В комнате с единственным окном, набранным из ромбовидных стекол, обстановка была самая скромная. Еще в ней были мужчина и женщина. Моего вторжения они, похоже, совсем не заметили, но во снах такое бывает часто. Они сидели, не шевелясь, по разным углам комнаты и угрюмо молчали.
Женщина была молода и, что называется, склонна к полноте. Ее отличала этакая строгая красота. Общий ее образ довольно отчетливо отпечатался у меня в памяти, хотя лицо не запомнилось, только прекрасные большие глаза; но такое во сне тоже не редкость. Помню еще, что на плечах у нее был клетчатый плед. Мужчина казался гораздо старше женщины. Лицо его со смуглой кожей, черными усами и свирепым выражением было обезображено шрамом, идущим от виска через всю щеку. Шрам этот виделся мне во сне довольно странным образом: казалось, что он не углублен в щеку, а как бы висит над ней – иначе не скажешь. Шрам сам по себе, а щека – сама по себе. Едва увидев эту пару, я уже знал, что это муж и жена.
Дальнейшее я едва помню: все вдруг перемешалось и перепуталось. Наверное, это пробуждалось сознание. На какое-то время сновидение и реальность наложились друг на друга, а потом сон начал истаивать и вскоре исчез совершенно. Я проснулся в полуразвалившейся лачуге, и сразу же отчетливо осознал, где нахожусь и как сюда попал.
Тревоги мои отлетели. Открыв глаза, я обнаружил, что в лачуге довольно светло: костер мой не только не погас, а даже разгорелся, дотянувшись до сухой ветки. Дремал я, наверное, считанные минуты, но сон мой, вполне, казалось бы, обычный, почему-то так впечатлил меня, что спать уже не хотелось. Я поднялся, сгрудил угли, разжег трубку и стал, что называется, обмозговывать свой сон с разных сторон – занятие, конечно же, нелепейшее.
Тогда я не отдавал себе отчета, почему это сновидение показалось мне важным. Я задумался над ним и понял, что это был за город. Это был Эдинбург. Сам я отродясь там не бывал. И если верно, будто сны наши – лишь воспоминания, значит, я вспомнил то, о чем читал, что видел на фотографиях. Особенно меня удивило, что я все-таки узнал город. Почему-то мне казалось, что сон мой очень важен, хотя никакого разумного объяснения этому я не находил. Да и язык мой повиновался не мне одному. «Все понятно, – само собой вырвалось у меня. – Выходит, Мак-Грегоры приехали сюда из Эдинбурга».
Поначалу меня не удивили ни сами слова, ни то, что я их произнес. Мне почему-то казалось естественным, что я знаю этих людей, знаю их историю. Но уже вскоре я сообразил, насколько это абсурдно. Громко рассмеявшись, я выколотил трубку и снова улегся на свое ложе. Я рассеянно глядел на умирающий огонь, не думая больше ни о сновидении, ни о хижине, в которой оказался. Наконец костер выдохнул последний язычок пламени – тот приподнялся над углями и тут же растворился в воздухе, – и воцарилась тьма.