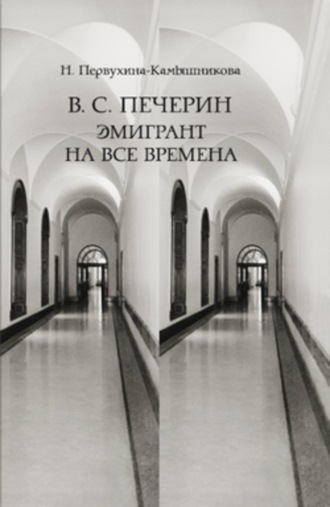
Полная версия
В. С. Печерин: Эмигрант на все времена
По-разному можно прочитать историю о том, как в двенадцать лет Печерин решился бежать во Францию. Он рассказывает о событии, которого не произошло, так, как если бы его фантазии были реальностью. Какой-то офицер был женат на француженке и собирался с ней ехать за границу. Печерин вышел за ворота, надеясь их увидеть, но никого не увидел. Печерин передает всю историю прямой речью, придавая ей осязаемость: «Как только они поедут, – думал я, – я брошусь к их экипажу и плачевным голосом скажу: "Je suis un pauvre petit enfant – je veux aller en France – prenez-moi avec vous!"» [Я бедный ребенок, я хочу отправиться во Францию, возьмите меня с собою!] (РО: 151). Вероятно, такой случай был, и, возможно, ребенок действительно мечтал уехать в экипаже куда-нибудь далеко-далеко. Но не надо забывать, что пишет это не наивное дитя, а профессиональный литератор и поэт, опытный проповедник. Эта сценка служит эпиграфом к последующему рассуждению о таинственной над ним власти заграницы, в особенности, Франции.
Идеи энциклопедистов, пафос французской революции, французская литература имели огромное влияние на формирование взглядов нескольких поколений дворянской интеллигенции. Но в 1819 году Печерин еще не был с ними знаком. Домашнего учителя Кессмана, оказавшего на него радикaлизирующее влияние, еще не было рядом. А первой французской книгой его был перевод английского романа Радклиф «Лес» (The romance in the forest, 1791). Начав учить французский в десять лет, «с величайшим наслаждением» изучив французский «Журнал для детей», вскоре он уже читал по-французски популярную философскую утопию Ф. Фенелона «Телемак» и трагедии Расина. Нет, не эта литература имела на него такое чрезвычайное влияние, а все тот же таинственный голос: «С самого детства я чувствовал какое-то странное влечение к образованным странам – какое-то темное желание переселиться в другую, более человеческую среду» (РО: 152). Удивительно, как мастерски Печерин организует коротенький рассказ о своем неодолимом, судьбоносном, таинственном влечении на Запад. Он упоминает дальше о том, что даже в пятилетнем возрасте, в день Рождества, при оглашении манифеста о победоносном завершении Отечественной войны и разгроме «Великой армии» Наполеона, «когда с коленопреклонением торжествовали избавление России от Галлов и с ними двадесяти языгк», он «про себя молился за французов и просил Бога простить им, если они заблуждались!» (РО: 152). Конечно, его природный идеалистический нонконформизм далек от желания Смердякова, чтобы «нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с» (Достоевский XIV: 205). Важно помнить, что все, о чем рассказывает Печерин, писалось в те же годы, когда Достоевский работал над «Идиотом» (1867–1868) и «Бесами» (1870–1871), что мемуарист имеет дело с теми же идеями, на которых воспитывалась и которыми жила вся русская интеллигенция. Поэтому пересечение образов, сходство реакций, параллелизм мыслей со многими авторами классической русской литературы не случайны. Мистический характер своего влечения к Западу Печерин будет подчеркивать неоднократно, но особенно четко провиденциальность его пути обозначена в первых автобиографических набросках, когда он начинал строить тот литературный образ, имидж, который хотел представить читателям в России. Покуда он пишет о временах отдаленных, язык его принимает формы, свойственные описываемой эпохе. В 1867 году он, давно уже подписчик и читатель герценовского «Колокола», посылая Пояркову очередной отрывок, с интонацией сентиментализма эпохи Карамзина восклицает: «Может быть, когда меня уже не будет на свете, кто-нибудь случайно прочтет эти строки и, если у него есть человеческое сердце, он пожалеет обо мне и скажет: "Этот человек достоин был лучшей участи!"» (РО: 150). А завершая рассказ о детстве, в таком же тоне обращается к чувствительному читателю: «Какая тайна развитие человеческого растения! Почему это семя пустило корни в таком, а не в другом направлении? (…) Зачем такие бледные цветы, такие тощие плоды? А ведь стремление соков, желание развития было великое! Недоставало, быть может, воздуха, солнца и благотворного дождя. Русская зима все убила на корню! О ты, который читаешь эти строки, помни, что они написаны кровью моего сердца!» (РО: 152). Так, казалось бы незаметно, Печерин подводит читателя к другой ловушке. На этот раз в качестве неведомой силы, ведущей его в изгнание, оторвавшей от России, выступает пресловутая «среда», которая «заедает» лишнего человека.
Глава вторая
«Я не могу не цитировать Шиллера»
Печерин часто рассматривается как живое воплощение литературного образа лишнего человека. Хотя формула «лишний человек» принадлежит И. С. Тургеневу, избравшему самохарактеристику своего героя для названия повести «Дневник лишнего человека» (1849), она оказалась применима ко множеству совершенно разных характеров, созданных за десятилетия до тургеневской повести: к Чацкому (1824), Онегину (1830), Печорину (1840), Бельтову (1847), а также к тем, кто появился во второй половине девятнадцатого и даже в начале двадцатого века. Герой Тургенева называет себя лишним не потому, что он отличается от всех остальных, «нелишних», а именно потому, что он таков, как все, одним больше, одним меньше, неважно: «Жизнь моя ничем не отличалась от жизни множества других людей» (Тургенев V: 143).
Чулкатурин, в отличие от «подпольного человека» Достоевского, своего литературного потомка, не понимает, что лишним его сделала постоянная саморефлексия, что она результат болезни, но не болезни любви, как он считает, а болезни «человека, усиленно сознающего» (Достоевский V: 104). Не называя своего недуга рефлексией, он однако догадывается, что в основе его страданий лежит «излишнее самолюбие», ведущее за собой мнительность, застенчивость, наклонность «искать свое место не там, где бы следовало» (Тургенев V: 144). Пожалуй, трудно назвать какое-либо значительное произведение девятнадцатого века, в котором внимание не было бы сосредоточено на герое, который не находит своего места в жизни, несмотря на, казалось бы, все данные для успеха. «Лишний человек» стал неотъемлемым понятием любой истории русской литературы. Самой существенной чертой «лишнего человека» можно считать его вольный или невольный нонконформизм. Нежелание, неумение или невозможность принять жизнь такой, как она есть, бунт против всеми принятого порядка вещей объединяет таких разных героев, как Онегин и Обломов, Печорин и Лаврецкий. Как ни разнообразны и глубоки характеры известных литературных персонажей, они выделяются именно своим положением аутсайдеров в окружающем мире. Такой взгляд позволяет включить в литературную традицию «лишнего человека» Обломова, Анну Каренину и сологубовского Передонова, Николая Кавалерова Олеши и Юрия Живаго Пастернака[12].
Предполагаемо маргинальный в обществе, в литературном мире образ лишнего человека занимает настолько доминирующее положение, что если судить по русской литературе, то весь смысл и интерес жизни был сосредоточен на неврастениках, неудачниках и бездельниках. Те, кто управляли государством, вели хозяйство, служили в армии и на государственной службе, никогда не становились центральными персонажами русского романа. Как ни органичен и ни убедителен лермонтовский Максим Максимыч, как ни тесно связан образ Платона Каратаева с философией Толстого, писателей притягивают к себе фигуры бунтарей и нонконформистов, именно к ним обращено внимание читателя. Впрочем, все без исключения авторы самим ходом романного действия приводят своих симпатичных, но чем-то ущербных героев к жизненному поражению. В результате яркий и сложный образ «лишнего человека» занял в сознании русского читателя центральное место, заставил идентифицировать себя с Онегиным, Печориным и даже с «подпольным человеком» Достоевского, а не с наивным и органически мудрым Максимом Максимычем или, тем более, с цельным и мужественным Петрушей Гриневым. А ведь они считаются подлинным выражением русского национального характера в его идеальном воплощении.
В «лишнем человеке» русской литературы прослеживаются европейские литературные корни, от шекспировского «Гамлета» до демонического героя Байрона. Название комедии Грибоедова «Горе от ума» выражает суть конфликта, лишающего героя возможности «найти свое место». Поскольку власть идеи, тирания мысли и порожденная ею «сатанинская гордость» заставляют героя выше всего ставить свою личную свободу, свою индивидуальность, он обречен на одиночество, несмотря на то, что сознание его требует общности с какой-либо группой единомышленников, учеников, последователей. Более того, сильно развитая индивидуальность особенно страдает от одиночества, поскольку ее жажда встречи с «родной душой» обречена оставаться неутоленной. В общественной жизни русского общества царил культ дружбы, также заимствованный из немецкого романтизма, но он укреплялся не романтическим, а вполне реальным сознанием уникальности встречи «родных душ» в стране, где хорошее образование и прогрессивные взгляды могли быть уделом избранного меньшинства. Способность вступать в подобные отношения и сохранять их живыми требует особого таланта, которым обладал Герцен – примером чему его отношения с Огаревым и Н. Захарьиной. Но то, что достойно и привлекательно в жизни, в литературе может казаться незанимательным и даже слащавым. Литература воплощает конфликт, возникающий из жажды принадлежать сообществу – от светского или семейного круга до революционного кружка – и невозможности отказаться от эгоизма индивидуальности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
На значение Печерина в интеллектуальном багаже советских диссидентов 1960—1970-х годов указал ирландский исследователь Эоин Мак-Уайт, специалист в области русской и польской литературы. Он был также культурным атташе ирландского посольства в Гааге. Имея доступ ко всем европейским архивам, Мак-Уайт сумел проследить историю множества лиц, упоминаемых Печериным, нашел архивные материалы и документы, уточняющие существенные события его жизни. Внезапная смерть прервала работу Мак-Уайта (как заметил Печерин, «никому из тех, кто любил меня, не посчастливилось» (РО: 168), книга осталась ненаписанной, но материалы к биографии были опубликованы посмертно (Е. MacWhite. V. S. Pecherin (1807–1885) // A Progress Report and Bibliography / Ed. and prep. for publication by P. J. O'Meara, Proceedings of Royal Irish Academy. Vol. 80c. 1980. P. 109–158. Ссылки на это издание в тексте: (Мак-Уайт 1980: страница).
2
Например, не мыслящие себя вне России современники Печерина – Д. Н. Ознобишин (1804–1877), блестящий лингвист и поэт; историк литературы и поэт С. П. Шевырев (1806–1860), проживший в Италии с 1829 по 1832 год и вернувшийся в Россию исполненным духа крайнего славянофильства; Д. Ю. Струйский (Трилунный) (1806–1856), как Печерин, исходивший пешком в течение двух лет (1833–1835) те же страны – Италию, Швейцарию, Францию, Германию и так же опьяненный заграничными впечатлениями, но доживший до конца жизни на родине.
3
Об истории публикации отдельных отрывков из мемуаров Печерина будет говориться ниже.
4
М. Гершензон. Автобиография В. С. Печерина // Русские пропилеи. Т. I. Материачы по истории русской мысли и литературы / Собр. и подгот. к печати М. Гершензон. М.: Издание М. и С. Сабашниковых. 1915.
5
М. Гершензон. Жизнь Печерина. М.: Путь. 1910. Гершензон опубликовал очерк о Печерине в сокращенном виде как вторую главу книги «История молодой России» (М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина. 190В). Все ссылки на «Жизнь Печерина» (Гершензон 2000: страница).
6
После революции деятельность Чижова в русской культурной и хозяйственной жизни на долгие годы оставалась в забвении, только в 1980-х годах стали появляться работы И. Симоновой, завершившиеся книгой Федор Чижов. М.: Молодая гвардия, 2002. Исследованиям И. Симоновой я обязана сведениями о Чижове, приводимыми в дальнейшем.
7
«Непосредственное и сильное воздействие» автора «Былого и дум» на «Замогильные записки» отметила Е. М. Пульхритудова (1976: 201).
Но это была скорее дань обязательной привязке политически сомнительной фигуры к идеологически безупречному авторитету.
8
См.: Andrew Baruch Wachtel. The Battle for Childhood. Creation of a Russian Myth. Stanford University Press, 1990. Псевдоавтобиографией Вахтель называет «повествовательную форму, соединяющую непосредственность автобиографии с творческой свободой романа». Псевдоавтобиография, в отличие от автобиографии, основанной на диалоге между прошлым и настоящим, «открывает более широкие возможности для полифонических связей между автором, рассказчиком и протагонистом – авторской фигурой в прошлом» (Вахтель 1990: 15; 20).
9
Утверждение Герцена о том, что «эпохи страстей, больших несчастий, ошибок, потерь вовсе не было» в жизни И. А. Яковлева (Герцен VIII: 86) опровергает новая публикация: Тартаковский 1997.
10
Герцен в своих воспоминаниях уделяет поразительно мало внимания матери, Луизе Ивановне Гааг (1795–1851), несмотря на то, что Луиза Ивановна всецело поддерживала сына в его убеждениях и они дружно, одной семьей, прожили бок о бок до самой ее трагической гибели.
11
См.: Сандомирская 2001. Автор дает развернутый анализ концепции родины в русской культуре и рассматривает религиозные и исторические истоки демонизации изгнанничества как богоотступничества.
12
См.: Ellen В. Chances. Conformity's Children: An Approach to the Superfluous Man in Russian Literature // Slavica Publishers. Ohio, 1978.

