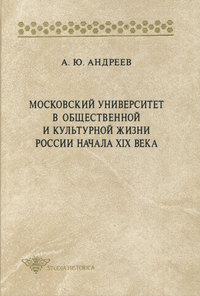Полная версия
Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы
Зато при рассмотрении начального этапа университетской реформы Александра I ключевое значение имеет источник, связанный с деятельностью другой Комиссии об училищах, начавшей работу согласно императорскому указу в сентябре 1802 г. Анализ журналов ее заседаний впервые проведен в данной работе и пролил свет на то, как именно шел процесс разработки основных принципов реформы[111]. Приложения к журналам, куда помещали все составленные членами Комиссии и обсуждавшиеся на заседаниях проекты и записки, к сожалению, не сохранились. Поэтому тем большее значение имеет представленный в протоколе пересказ одобренных Комиссией пунктов того или иного проекта, что позволяет восстановить их содержание. В качестве одного из дополнительных источников при изучении этапов разработки Устава 1804 г. и начала массового приглашения немецких профессоров в Россию также использованы журналы Главного Правления училищ – коллегиального органа руководства министерством народного просвещения с февраля 1803 г.[112]
Опубликованная часть делопроизводства министерства народного просвещения за первую половину XIX в. вошла в «Сборник распоряжений министерству народного просвещения» (Т. 1–2. СПб., 1866), где приведены циркуляры и другие предписания, подписанные министром. Они предоставляют обширное поле для изучения политики министерства по отношению к немецким университетам (так, здесь опубликованы инструкции министра относительно процесса приглашения в российские университеты немецких профессоров[113]).
Основная же часть неопубликованных дел находится в составе фонда Департамента народного просвещения (РГИА, ф. 733). Этот фонд содержит свыше 100 тысяч дел, охватывающих всю историю министерства вплоть до 1917 г., в том числе, двадцать пять описей фонда содержат дела о российских университетах за первую половину XIX в. Среди них находятся документы о зачислении и увольнении немецких профессоров, а также обширный материал о научных командировках в Германию отечественных университетских ученых, а также о подготовке будущих профессоров российских университетов за границей, начавшейся в 1800-е гг., но широко продолжившейся в 1830—40-е гг. Выявление этих дел требует кропотливого архивного поиска: материалы о командировках или иностранных профессорах не собраны вместе, а распылены по всему фонду. Для первой половины XIX в. структура фонда разделена по учебным округам, каждый из которых возглавлялся своим университетом: Петербургскому (оп. 20–24), Московскому (оп. 28–34), Казанскому (оп. 40–41), Харьковскому (оп. 49–50), Дерптскому (оп. 56–57), Виленскому (оп. 65–68), Киевскому (оп. 69–70); кроме того, в отдельную опись выделены дела Главного Педагогического института (оп. 93), который активно занимался в 1830—40-е гг. подготовкой университетских профессоров с их последующим командированием за границу. Следует также отметить одно важное достоинство делопроизводственных источников из фонда Департамента народного просвещения: поскольку с 1803 г. прием на российскую службу приглашаемых немецких профессоров осуществлялся через министерство и сохранившиеся в фонде Департамента дела дают обширную информацию о университетских контактах с Европой в этой связи (например, дело о зачислении профессоров И. Бартельса, Ф. Броннера, И. Литтрова, X. Френа, И. Эрдмана в Казанский университет (оп. 39, ед. хр. 82), в которое вошла значительная часть переписки попечителя Казанского университета С. Я. Румовского по этому поводу), то это позволяет обойтись без обращения к местным университетским архивам, в которых та же информация дублировалась, и которые, однако, понесли огромные документальные потери (особенно это касается архивов Московского и Харьковского университетов, где дела за первые десятилетия XIX в. не сохранились), тогда как в центральном архиве дела остались невредимыми.
В отдельную группу источников данного исследования входят документы личного происхождения — мемуары и переписка ученых. Эти источники наглядно демонстрируют взаимосвязь университетской среды России и Европы. Хронологически их ряд открывается перепиской выдающегося немецкого ученого первой половины XVIII в. X. Вольфа с российскими государственными деятелями, одной из основных тем в которой служила организация Петербургской Академии наук. Эта переписка содержит свыше 70 писем за 1719–1753 гг., которые хранятся в Архиве Академии наук в Петербурге и были полностью опубликованы еще в середине XIX века А. Куником.[114] Основными корреспондентами X. Вольфа являлись президенты Академии наук Л. Л. Блюментрост, барон И. А. Корф, а также советник Академии И. Д. Шумахер, а через посредничество Блюментроста о содержании писем узнавал Петр I. В переписке отразились первые усилия по налаживанию связей между немецкими университетами и Россией.
Наиболее объемным из существующих собраний ученой переписки Россией с Германией является наследие академика Г. Ф. Миллера, которое в настоящее время разбито между двумя архивными хранилищам: петербургским (ПФА РАН, ф. 21, оп. 3) и московским (РГАДА, ф. 199). В составе знаменитых «портфелей Миллера» сохранились несколько тысяч писем, как полученные, так и черновые отпуски отправленных. Особенно активная переписка с немецкими университетами поддерживалась Г. Ф. Миллером в 1754–1765 гг., когда он занимал должность конференц-секретаря Петербургской Академии наук. В этом качестве он принимал участие в приглашении первых профессоров в Московский университет, о чем свидетельствует его переписка со служившими там немецкими учеными, а также кураторами Ф. П. Веселовским и В. Е. Адодуровым[115] (заметим, при этом, что не существовало прямой переписки между Миллером и И. И. Шуваловым, поскольку они тогда жили в Петербурге в непосредственной близости друг от друга, и указания от последнего Миллер получал в устной форме). Часть этой переписки, относящаяся к лейпцигскому профессору И. К. Готшеду и его ученикам X. Г. Кельнеру и И. Г. Рейхелю, была опубликована.[116]
Роль главного зарубежного корреспондента российских деятелей высшего образования в начале XIX в. играл профессор Гёттингенского университета К. Мейнерс. Его переписка с Россией за 1803–1809 гг. хранится в рукописном отделе библиотеки Гёттингенского университета, где представляет собой отдельную переплетенную тетрадь (как с полученными письмами, так и с черновиками отправленных) объемом более 300 листов (Cod. Ms. Meiners, 41). Часть писем была опубликована немецким исследователем В. Штидой,[117] но практически не цитировалась отечественными историками. Центральное место в переписке занимает интенсивный обмен письмами с попечителем Московского университета M. Н. Муравьевым за 1803–1804 гг. (более 20 писем с обеих сторон), в которых оговаривались условия приглашения, требования к ученым, шло кропотливое обсуждение предложенных кандидатур, определялся размер выплачиваемых средств на переезд в Россию и т. д. В последующие годы в переписке Мейнерса присутствует полтора десятка писем, полученных от рекомендованных им ученых уже из России. По количеству разнообразной информации о восприятии немецкими профессорами среды российских университетов начала XIX в. этот источник не имеет себе равных.
Назовем еще один вид эпистолярного источника – письма профессоров попечителю. В частности, в личном фонде попечителя Московского университета M. Н. Муравьева находятся такие письма за 1803–1807 гг., посвященные разнообразным вопросам университетской жизни, например развернутый проект И. Т. Буле по переустройству библиотеки Московского университета по образцу гёттингенской или суждения Ф. Гольдбаха об организации астрономических и геодезических наблюдений.[118] Источником такого рода отмечен и Казанский университет, где доверительные отношения сложились между немецким профессором, выполнявшим обязанности инспектора, Ф. К. Броннером и двумя сменившими друг друга попечителями, С. Я. Румовским и М. А. Салтыковым. Оживленная переписка Броннера с обоими попечителями поддерживалась в 1810–1816 гг.[119] В ней отражались подробности жизни университета, причем Броннер отстаивал интересы немецких профессоров, привыкших к автономному управлению университетом, от произвола «профессора-директора» И. Ф. Яковкина.
Мемуары ученых встречаются в исследуемый хронологический период редко и тем ценнее каждые из них. Профессор Харьковского университета К. Д. Роммель оставил яркие и содержательные воспоминания о своем пребывании в России в 1810–1815 гг., написанные непосредственно после его возвращения на родину.[120] Роммель подробно описал ситуацию в немецких университетах эпохи наполеоновских войн и причины, подвигнувшие его искать места в России. Характерная особенность его мемуаров состоит в том, что автор сознательно сопоставляет и противопоставляет, во-первых, ученую среду гёттингенского (где он учился) и Харьковского университетов, а во-вторых, приехавших в Харьков немецких профессоров и их русских коллег.
Особо следует выделить замечательные мемуары профессора Дерптского университета Г. Ф. Паррота о пребывании в Петербурге в ноябре-декабре 1802 г., поскольку именно эти записки проясняют детали процесса законодательного утверждения университетской автономии в России. Паррот описал свои свидания с Александром I и участие в разработке «Акта постановления» Дерптского университета (влияние которого на остальные законопроекты университетской реформы начала XIX в. прослеживается по другим источникам). Мемуары Паррота сохранились в отрывке, их полный текст неизвестен, названный же фрагмент был полностью опубликован биографом Паррота Ф. Бинеманом еще в 1902 г., но до сих пор ни разу не привлекал внимание российских историков.[121]
Наконец, последняя группа источников, анализируемых в книге, – периодические издания, которые используются в той мере, в какой в них нашли отражение непосредственные контакты университетской среды России и Европы. Если в XVIII в. некоторые немецкие ученые издания («Neue Zeitungen für Gelehrten Sachen», «Das Neuste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit») проявляли интерес к становлению университетского образования в России, то в начале XIX в. уже в отечественных журналах («Периодическое сочинение о народном просвещении в России», «Вестник Европы») появлялись, хотя и изредка, статьи о зарубежных университетах. Регулярный же анализ публикаций, свидетельствующий о процессе переноса через публицистику идей «классического» университета из Германии в Россию, возможен для 1830—40-х гг., когда в таких изданиях, как «Журнал министерства народного просвещения», «Отечественные записки», «Московский наблюдатель», «Москвитянин» помещались письма и отчеты молодых русских ученых, побывавших в Германии, а также обзорные публикации о состоянии университетов в различных частях Европы.
Подводя итог, подчеркнем достаточную полноту и репрезентативность источниковой базы исследования, куда входят разнообразные виды документов, позволяющие с различных сторон осветить тему взаимосвязей российского и европейского университетского образования в XVIII – первой половине XIX в. Их исследование помогает преодолеть характерный для отечественной историографии прежний «изоляционистский подход», при котором развитие российских университетов рассматривалось исходя только из внутренних реалий и условий отечественной истории. «Размыкание» российского университетского пространства, показ его действительного развития на фоне и в единстве с Европой важен не только как эмпирический результат, доказанный на определенном хронологическом отрезке времени, но и как методологическая парадигма, актуальность которой очевидна сейчас, во время очередного поиска путей развития российских университетов, и которая утверждает глубокую общность идей, составляющих фундамент любого университета в современном мире.
* * *В основе настоящей книги лежит рукопись диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук, защищенной автором в марте 2006 г.[122] Поэтому я хотел бы выразить глубокую признательность коллегам-историкам, которые своими советами и поддержкой содействовали написанию диссертации, и, прежде всего, моему учителю, заведующему кафедрой истории России XIX – начала XX в. исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, профессору Владимиру Александровичу Федорову. Он ушел из жизни летом 2006 г. после долгой и тяжелой болезни, но память о нем как о необыкновенно отзывчивом, добром и светлом человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.
Также я выражаю благодарность всем профессорам и преподавателям исторического факультета МГУ и других университетов, принимавших участие в обсуждении диссертации: С. В. Мироненко, Л. Г. Захаровой, Л. П. Лаптевой, А. Е. Иванову, А. Б. Каменскому, Л. Г. Березовой, М. П. Мохначевой, Д. А. Цыганкову, А. В. Мамонову, Ф. А. Гайде (Москва), Е. А. Вишленковой (Казань), С. И. Посохову и Л. Ю. Посоховой (Харьков), М. Хильдермайеру, Т. Маурер (Гёттинген), M. Л. Ботт (Берлин), X. Р. Петеру (Галле), В. Береловичу (Париж/Женева), а также директору Германского исторического института в Москве, профессору Б. Бонвечу и всем его сотрудникам, и в особенности А. В. Доронину, за их искреннюю поддержку Мои особо теплые слова признательности – главному научному сотруднику отдела письменных источников ГИМ Ф. А. Петрову за его неизменную помощь и внимание к моей работе. Должен еще добавить, что значительная часть работы над диссертацией и настоящей книгой проходила в стенах (увы, недавно расформированного) Института истории Общества имени Макса Планка в Гёттингене, который предоставил для этого условия, близкие к тому, что учеными XVIII века называлось Paradies der Gelehrten. Возможностью поработать там я обязан исследовательским стипендиям и грантам Gerda-Henkel-Stiftung, Max-Planck-Gesellschaft и DAAD.
В настоящий момент издание книги осуществляется за счет гранта РГНФ (№ 08-01-16107д) и является составной частью международного проекта «UЬі universitas – ibi Europa. Transfer und Adaptation von Universitätskonzentionen im Russischen Reich (18 – erste Hälfte des 19. Jahrhunderts)», получившего финансовую поддержку Gerda-Henkel-Stiftung (AZ 02/SR/08).
Москва, август 2008 г.
Глава 1
Возникновение университетов в Центральной и Восточной Европе
Европейский университет как средневековая привилегированная корпорация
Старейшие европейские университеты не имеют своей точной даты основания. Приблизительное время их появления – XII век, к которому восходит история таких университетов, как Париж, Болонья, Оксфорд, Виченца, Монпелье. Их предшественниками здесь выступали монастырские и соборные школы, которые, в свою очередь, являлись хранителями школьных традиций античности и смогли пронести сквозь «темные века» не только элементарную грамотность – умение читать, писать и считать, – но и целый комплекс artes liberales, «семи свободных искусств», ставший после каролингской реформы основой средневекового образования.
Процесс превращения этих школ в последующие университеты был длительным и требовал как минимум двух естественных условий: внутренней самоорганизации и внешней санкции верховной власти. Для возникновения первой было необходимо, чтобы город являлся центром притяжения учителей и учеников в европейском масштабе: отсюда вытекала конкуренция ученых между собой с подчас непримиримым столкновением взглядов, а также стечение на узком пространстве внутри городских стен множества выходцев из различных земель и, что было тогда еще важнее, с различным сословным происхождением и правами. Так возникало естественное желание не только гармонизировать возможные конфликты, но и найти твердый способ их разрешения, поскольку обычные нормы средневекового судопроизводства переставали работать, когда встречались представители разных феодальных территорий и сословий, каждый со своей собственной юрисдикцией. Такому желанию отвечало создание собственной корпорации, universitas magistrorum et scholarum (лат. – объединение учителей и учеников), по латинскому названию которой и получил свое имя университет. Тем самым, эта самоорганизация была вполне аналогична природе цеховых объединений, появляющихся практически в одно время с университетами – по сути последние и были «цехами ученых» со всеми свойственными им элементами корпоративного устройства, о которых речь пойдет дальше.
Однако для оформления своих «цеховых» прав, тем более затрагивающих судебную юрисдикцию в масштабах всей Европы, университету требовалось второе из вышеназванных условий, т. е. был нужен могущественный покровитель, а таковых в XII в. было всего два – римский папа, церковный глава всего христианского Запада, и император Священной Римской империи, претендующий на ту же роль, но уже в отношении светской власти. И папа, и император даровали первым университетам привилегии, и это резко возвысило университеты над остальными средневековыми объединениями, придало им особый вес и значение в рамках феодального порядка. Подчеркнем, что если складывание внутренней корпорации первых университетов занимало десятилетия, то и дарование им привилегий не было одномоментным, а могло растянуться на многие годы (как это происходило в случае Парижского университета), но зато именно с получением привилегий и было связано приобретение университетом своего статуса. С этого момента и на долгие столетия вперед, фактически до конца ancienrégime и самой Священной Римской империи в Европе, социально-правовой контекст последней будет определять внешние рамки университетской истории, а самым точным и простым определением университета будет служить понятие «привилегированной ученой корпорации».[123]
Чтобы лучше это понять, следует остановиться на первой из известных нам университетских привилегий, к которой восходят все остальные и которая была утверждена в 1155 г. Фридрихом Барбароссой для университета в Болонье. Фридрих нуждался тогда, в период своей активной итальянской политики, в услугах болонских юристов для обоснования «законных» притязаний на престол и полномочия римского императора. Изданный им указ поэтому имел двойное значение: с одной стороны, он служил благодарностью за оказанную знатоками римского права политическую помощь, с другой – этими же учеными указ был занесен в готовившийся в Болонье для широкого распространения по всей Европе Кодекс Юстиниана, свод законов поздней Римской империи, признавая, тем самым, за Барбароссой роль прямого наследника прежних императоров.[124]
Текст указа был, несомненно, подготовлен там же, в Болонье, а потому служит первым свидетельством развития «цехового» сознания ученых, того, как именно они понимали самые насущные нужды своей корпорации. Как и ожидалось, речь в указе шла о разрешении конфликтов. Согласно данной привилегии, любой член университетской корпорации, на которого поступил вызов в суд, получал право самостоятельно выбирать судью, причем из числа членов его же собственной корпорации, у которых он учится (магистров). При этом указом запрещалось широко практиковавшееся местными властями заключение студента под стражу за долги, сделанные одним из его соотечественников[125].
Оба пункта указа, по сути, освобождали членов университета от юрисдикции местных городских властей, передавая университету права самостоятельной судебной инстанции. Selbstgerichtbarkeit (нем., букв, «осуществление собственного суда») – таким термином называется это право в немецкой традиции, и именно в этом смысле и трактовалось первоначально знаменитое университетское понятие «академической свободы» (akademische Freiheit), являвшееся основой самосознания университетской корпорации. Оно породило представление об особом «академическом гражданстве», к которому относятся все члены корпорации (и студенты, и преподаватели, и служители университета, а также члены их семей). «Академические граждане» живут по своим собственным законам, отдельно от окружающего их населения, и действительно, уже в Париже право университета на издание новых законов, распространяющихся на членов корпорации, было впервые признано папой римским Иннокентием III в 1208–1209 гг., а затем официально утверждено в важнейшей для этого университета привилегии, изданной папой Григорием IX в 1231 г.[126] Более поздние уставы университетов, относящиеся к XIV–XV вв., подробным образом прописывали процедуру университетского суда, который наделялся даже полномочиями выносить смертные приговоры, а для осуществления приговора в его распоряжении находилась университетская полиция и собственная темница — карцер, сохранявшая (хотя бы частично) свои исторические функции вплоть до начала XX в.
О том, насколько сознание неотъемлемости «академической свободы» пронизывало всю «доклассическую» эпоху университетской истории, свидетельствуют примеры из начала XIX в., в частности упорные попытки сохранить судебные полномочия Гёттингенского университета в условиях наполеоновской оккупации, желавшей модернизировать судопроизводство в Германии и освободить его от средневековых пережитков[127]. А, по-видимому, самым поздним законодательным актом в Европе, утверждавшим «академическую свободу» в ее полном традиционном виде, был Устав российских университетов 1804 г., куда эти права были включены, правда не без долгого и острого обсуждения (см. главу 3). В то же время в постепенном изменении содержания «академической свободы» на рубеже XVIII–XIX в. – от судебного иммунитета в пользу свободы для научной и преподавательской деятельности – заключался один из аспектов перехода от «доклассического» к «классическому» университету.
«Академическая свобода» стала важнейшей, но не единственной привилегией университета. Фридрих Барбаросса в своем указе даровал и другое важное право – беспрепятственное передвижение членов университета по территории империи. По словам автора современной истории немецких университетов Райнера Мюллера, оформлявшееся так «университетское пространство» было уникальным для средневековой жизни, поскольку существовало вне границ отдельных стран и законов и не имело на первых порах даже постоянной привязки к «месту обитания» – собственные здания появились гораздо позже, а средневековый университет был очень подвижен и мог легко мигрировать из города в город[128].
Еще одна из привилегий, утвердившихся в XII–XIII в., имела столь же ведущее значение для оформления ученой корпорации, как и «академическая свобода», – это право университета на присвоение ученых степеней. Уже в указе Барбароссы фигурировало понятие «магистров», ведущих преподавание для слушающих их «школяров» (scholar – первоначальное обозначение учащегося, слово «студент» появилось позднее). Возникает естественный вопрос – являются ли эти «магистры» просто синонимом университетских учителей, или уже тогда обозначали определенную квалификацию, т. е. ученое звание, полученное в признание заслуг своего обладателя?
Как показал анализ, проведенный историкам, первоначально слово magister употреблялось как почетный личный титул, свидетельствуя, как следует из его перевода (лат. руководитель, учитель, наставник), что носитель титула достиг высокого уровня знаний и, соответственно, может передавать их другим. Этим титулом, как правило, награждал своего ученика его прежний учитель, отличая, тем самым, от менее успешных учеников. Наряду с магистром в качестве титулов для ведущих преподавание в университете ученых употреблялись также слова doctor (от лат. docere – учить) и professor (от лат. profited – объявлять, излагать публично), причем, по-видимому, на одинаковых основаниях.[129] Первое намерение превратить эти титулы именно в показатель ученой квалификации, засвидетельствованный членами корпорации, было высказано в Париже в 1213 г., когда канцлер (представлявший в университете власть Парижского епископа) издал распоряжение о том, что читать лекции по богословию и церковному праву в университете должен лишь тот, кто получил одобрение всей коллегии преподавателей (в указе они названы профессорами).[130] Причиной появления такого указа, очевидно, было слишком большое количество парижских учителей, среди которых требовалось выбрать достойных. В 1219 г. папа Гонорий III, подтверждая эти меру, предписал проводить для них строгие экзамены, ответственность за проведение которых возложил на декана соборной церкви.[131] Так возникла еще одна корпоративная должность, вскоре ставшая обозначать глав будущих факультетов, которые и проводили соответствующие испытания.
Уже в XIII в. эти экзамены приобрели многоступенчатый характер, соответствуя определенным этапам учебы, и, соответственно, умножилась градация ученых степеней: на ее низшей ступени стояли бакалавры, прошедшие начальные ступени экзаменов на своем факультете, затем лиценциаты, прослушавшие все лекции, выдержавшие полные экзамены у своих профессоров и получающие, вследствие этого, licentia docendi, т. е. право на преподавание, но пока еще к этому преподаванию не допущенные. Чтобы полноценно вступить во владение своим правом, т. е. получить звание магистра (оставшееся только на философском факультете) или доктора (на остальных факультетах), нужно было пройти публичный экзамен – своего рода корпоративный ритуал, происходивший в церкви, в присутствии всех остальных магистров или докторов. На этом экзамене провалиться было уже невозможно, все его роли были заранее расписаны, однако допуск к нему стоил очень и очень дорого, включая подношения всем членам коллегии (сохранявшиеся во многих университетах до XIX века). Хорошую аналогию здесь представляют гильдейские и цеховые платежи, величина которых в средние века удерживала многих от получения высших цеховых степеней – так и в университетах далеко не все лиценциаты решались перейти в магистры или доктора[132]. Таким образом, сложившаяся система ученых степеней одновременно и отражала цеховую природу университета, и имела существенное отличие, поскольку основывалась на привилегиях высшей власти, получая тем самым универсальный характер, признаваемый во всем западном христианском мире.