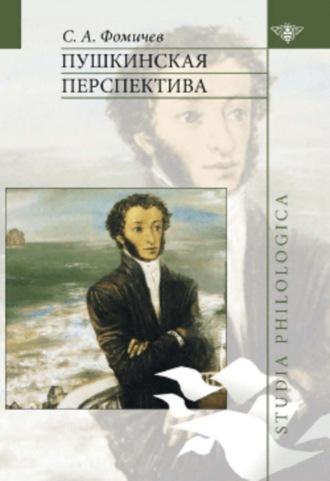
Полная версия
Пушкинская перспектива
Имя пушкинского беса Молок, как справедливо полагают, пришло в его поэму из «Потерянного рая» Мильтона, но русское ухо неизбежно услышит в нем знак женского начала (молоко). При обнаружении беса монах называет его Мамоном («Ага, Мамон! дрожишь передо мною»). В церковном словаре слово это означает богатство, пожитки, земное сокровище, которыми бес пытается прельстить монаха («Богатства все польют к тебе рекою»). Но в разговорном языке мамон—брюхо, желудок; мамонить—соблазнять, прельщать; мамоха, мамошка – любовница. А избранное Пушкиным имя героя – неужели оно случайно? Едва ли это так. В Великих Четьих Минеях значились два святых под именем Панкратий: летний (9 июля) и зимний (9 декабря). Оба они имели дело с бесами, а первый из них побывал и в Иерусалиме (правда, без бесовской помощи) – подвижник раннего христианства, он встречался там с апостолами Петром и Павлом. Но, кажется, Пушкин ориентировался все же на Панкратия зимнего. Вовсе не потому, конечно, что тот загнал бесов, принявших вид свиней, в пещеру и запечатал их крестом – ничто в сюжете пушкинской поэмы не предвещает подобного эпизода. Важно оценить одну деталь, означенную в тексте поэмы:
И вдруг бела, как вновь напавший снегМосквы-реки на каменистый брег,Каклегка тень, вглазах явилась юбка… (с. 22)[50]Здесь вспоминается начало зимы («Вновь напавший снег» – это первый в году снег, покрывающий каменистый берег реки). По народному календарю, «осень кончается, зима зачинается» именно 9 декабря: «сельские хозяева по созвучию замечают, что с праздника зачатия св. Анны зачинается зима».[51] День зачатия св. Анны, матери св. Девы Марии, совпадал с днем Панкратия зимнего, 9 декабря. Панкратий становился как бы покровителем беременных женщин, которые особо почитали этот день. Вспомним, что позднее свою кощунственную поэму «Гавриилиада» Пушкин посвятит празднику Благовещения – оказывается, в его лицейском опусе намечалось уже нечто подобное. После возвращения героя из Иерусалима в келье должна была появиться уже не только юбка, но и девица. Согласно намеченной Пушкиным трактовке событий, она явится именно герою, а не прихожанам. Способен ли он выдержать такое испытание?
Близкие по времени к поэме «Монах» пушкинские стихотворения кончаются одним и тем же устойчивым мотивом:
Дай Бог, чтоб в страстном упоеньи,Ты с томной сладостью в очах,Из рук младого Купидона,Вступая в мрачный челн Харона,Уснул… Ершовой на грудях!(«Князю А. М. Горчакову». I, 50)
Так поди ж теперь с похмельяС Купидоном примирись;Позабудь его обидыИ в объятиях ДоридыСнова счастьем насладись!(«Блаженство». I, 56)
Когда ж пойду на новоселье(Заснуть ведь общий всем удел),Скажи: «дай Бог ему веселье!Он в жизни хоть любить умел».(«К Н. Г. Ломоносову». I, 76)
Веселье! будь до гробаСопутник верный наш,И пусть умрем мы обаПри стуке полных чаш!(«К Пущину. 4 мая». 1,120)
«Штоф зеленой водки» у Панкратия и до того был под рукой. Оставалось дело за девицей. Возможно, в воображении Пушкина мелькала заключительная ситуация, отраженная позднее в стихотворении «Русалка» (1819). Современники иногда упоминали его под названием «Монах»:
Над озером, в глухих дубровахСпасался некогда Монах,Всегда в занятиях суровых,В посте, молитве и трудах (…)И вдруг… легка, как тень ночная,Бела, как ранний снег холмов,Выходит женщина нагаяИ молча села у брегов.Глядит на старого МонахаИ чешет влажные власы.Святой Монах дрожит со страхаИ смотрит на ее красы.Она манит его рукою,Кивает быстро головой…И вдруг – падучею звездою —Под сонной скрылася волной (…)Заря прогнала тьму ночную:Монаха не нашли нигде,И только бороду седуюМальчишки видели в воде (II, 96–97).Поэма «Монах» не была окончена Пушкиным и стала известна читателям спустя более столетия после ее создания. Она вполне вписывается в контекст раннего лицейского творчества поэта и отчасти проясняется этим контекстом. Монах – это вообще первая из поэтических масок, которую примеряет к себе юный поэт-лицеист, – монах, заключенный в келье, но мечтающий о радостях земных. Казалось бы, этим и исчерпывается скромная роль первой поэмы в общей эволюции пушкинского творчества.
С некоторым удивлением, однако, мы обнаруживаем, насколько часто Пушкин впоследствии возвращался по разным поводам к опыту своего юношеского сочинения. Нетрудно различить его «остаточное влияние» в «Руслане и Людмиле», в «Гавриилиаде», в «Сцене из Фауста», в «Борисе Годунове», в «Сказке о попе и работнике его Балде», в «Русалке». Но это только первый, поверхностный слой.
Во Второй кишиневской тетради (ПД 832) мы находим начало произведения:
На тихих берегах МосквыЦерквей, венчанные крестами,Сияют ветхие главыНад монастырскими стенами.Вокруг простерлись по холмамВовек не рубленные рощи,Издавна почивают тамУгодника святые мощи (II, 261).Конец листа оборван, остались лишь рифмующиеся окончания третьего четверостишья: «…цариц… молитвы… девиц… битвы».
Здесь имеется в виду все тот же Савво-Сторожевский монастырь, который послужил местом действия первой пушкинской поэмы. Серьезный тон повествования не предполагает, кажется, озорного сюжета.
Мы далеки от мысли, что здесь Пушкиным предпринята попытка «перелицевать» всерьез коллизию «Монаха», но в любом случае замысел этот интересен потому, что он возникает спустя год после окончания поэмы «Гавриилиада», в период тяжелейшего духовного кризиса поэта, пытавшегося его преодолеть. Не служит ли отрывок «На тихих берегах Москвы» свидетельством таких попыток?[52]
С другой стороны, бесовская тема останется постоянной в творчестве Пушкина. В его графике, всегда отражающей ход подспудных, сопровождающих черновые рукописи ассоциаций, изображения бесов и ведьм, нарисованные с редкой экспрессией, столь же часты, как и знаменитые рисунки женских ножек. Именно в графике прежде всего был намечен долго волновавший Пушкина замысел о Влюбленном бесе.[53] Следы этого замысла обнаруживают в «Евгении Онегине», «Домике в Коломне», «Пиковой даме», «Медном всаднике».
Все это свидетельствует о том, что, оказывается, уже в первом из дошедших до нас произведений Пушкин счастливо угадал едва ли не главное направление своего творчества. Озорство в интерпретации религиозных сюжетов с годами пропадет, но останется постоянным его интерес к древнерусской книжности наряду с народно-поэтическим творчеством. Через головы декларируемых им самим литературных кумиров (Парни, Вольтер, Байрон, Шекспир и другие) Пушкин постоянно будет обращаться к истокам русской культуры. Мировой художественный опыт будет преломлен в его творчестве через призму («магический кристалл») национального самосознания, что позволит ему открыть «Золотой век» русской литературы.
Смеховой мир «Комедии о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве»
Работа Пушкина над трагедией «Борис Годунов» была стимулирована X и XI томами «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, чтение которых получило отражение в портрете историографа на л. 41 одной из рабочих тетрадей Пушкина (Второй масонской, ПД 835)[54] – среди черновых набросков начала четвертой главы «Евгения Онегина» (здесь же портреты Мирабо и Вольтера, автопортрет, стилизованный под Вольтера). На л. 44 и 44 об., в ноябре 1824 года, записывается конспект из карамзинской «Истории», касающийся прежде всего «Убиения Св.(ятого) Димитрия» в 1591 году. От этого события конспект первоначально сразу же переходил к 1598 году: «Государств.(енный) Дьяк и печатник Василий Щелкалов требует присяги во имя Думы Боярской. Избр.(ание) Годунова». Ниже (на л. 44 об.), однако, суммируются сведения о «ссылках и казнях 1584–1587» и о составе Верховной Думы 1584 года – последним здесь значится «Гудунов, зять Малюты Скуратова». Дополнения эти, вероятно, важны для Пушкина в качестве фактов, свидетельствующих о давней и планомерной коварной подготовке Борисом Годуновым условий для собственного воцарения – еще до начала правления хилого и невластолюбивого преемника Иоанна Грозного, царя Феодора.
На л. 45 набрасывается план произведения:
Год.(унов) в монастыре. Толки князей – вести – площадь, весть об избрании. [Год.(унов) юродивый] – Летописец. Отрепьев – бегство Отрепьева.
Год.(унов) в монастыре. Его раскаянье – монахи беглецы. Гуд.(унов) в семействе —
Гуд.(унов) в совете. Толки на площади. – Вести об изменах, смерть Ирины. Год.(унов) и колдуны.
Самозванец [поср(еди)] перед сражением —
Смерть Годунова (– известие о первой победе, пиры, появление самозванца) присяга бояр, измена
Пушкин и Плещеев на площади – письмо Димитрия – вече – убиение царя – самозванец [принима(ет)] въезжает в Москву.
В ходе работы над пьесой план этот был существенно откорректирован: были введены польские сцены; о смерти Ирины и об общении царя с колдунами будет лишь упомянуто в репликах (отдельных сцен об этом не будет, как и отдельной сцены «Годунов в монастыре»); самозванец появится в большем количестве сцен (хотя и не будет показан его въезд в Москву) и сюжетно в пьесе встанет наравне с Годуновым.
Особо следует отметить отсутствие в плане (и в конспекте из «Истории») комических сцен, за исключением, пожалуй, только одной, вычеркнутой в первом абзаце плана, – «Годунов юродивый». Ее обычно считают наметкой сцены «Площадь перед собором в Москве», помещенной значительно ниже. Однако здесь возможно и другое толкование. Дело в том, что после согласия занять престол Борис Годунов вовсе не покинул сразу же монастырь и некоторое время правил государством оттуда. Следуя (особенно вначале) канве событий, изложенных в томе XI «Истории государства Российского», Пушкин мог обратить внимание на такое замечание историографа:
Святители, вельможи тщетно убеждали царя оставить печальную для него обитель, переселиться с супругою и с детьми в кремлевские палаты, явить себя народу в венце и на троне; Борис ответствовал: «Не могу разлучиться с великою государынею (вдовой царя Феодора. – С. Ф.), моею сестрою злосчастною» – и даже снова, неутомимый в лицемерии (курсив мой. – С. Ф.), уверял, что не желает быть царем.[55]
Этот эпизод воцарения лицемерного (юродствующего) Бориса мог послужить содержанием соответствующей сцены (впрочем, в плане тотчас же упраздненной).[56]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Гинзбург Л. Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 327.
2
Лихачев Д. С. Прошлое – будущему: Статьи и очерки. Л., 1985. С. 158.
3
Краткую библиографию по этой теме см. в кн.: Фризман Л. Семинарий по Пушкину. Харьков, 1995.
4
Замятин Е. Избранные произведения. М., 1989. С. 564–565, 630.
5
Платонов А. Чевенгур. М., 1988. С. 121.
6
См.: Листов В. С. «Темный твой язык учу…» (в печати). После 1917 года уже пели: «Это есть наш последний / И решительный бой…».
7
Ср.: «C'est la lutte finale: / Groupons-nous et demain, / L'Internationale / Sera le genre humain» (PotierE. Chants revolutionnaires. Paris, 1937. P. 23. Перевод: «Это последняя битва: / Объединимся, и завтра/ Интернационал / Станет образом жизни человечества»).
8
Произведения Пушкина цитируются по Большому академическому изданию (1937–1949). Ссылки на автографы Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме, даются сокращенно – с подразумеваемым префиксом: Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, фонд 244, опись 1.
9
Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник//А. С. Пушкин: Pro et contra: Личность и творчество Александра Пушкина в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. Т. 1. СПб., 2000. С. 486.
10
БелинскийВ. Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1948. С. 123–124.
11
Прийма Ф. Я. «Слово о полку Игореве» в русском историко-литературном процессе первой трети XIX в. Л., 1980. С. 121.
12
Иванов В. В. Откуда черпал образы Пушкин – футуролог и историк? // Новые безделки: Сб. ст. к 60-летию В. Э. Вацуро. М., 1995–1996. С. 415.
13
Французская элегия XVIII–XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры. М., 1989. С. 609.
14
Пушкин А. С. Лицейские стихотворения. 1813–1817. СПб., 1999. С. 286.
15
«На празднике жизни, едва начавшемся, всего на одно мгновение мои губы прижались к кубку, все еще полному в моих руках» (фр.). По поводу этих строк В. В. Набоков замечает, что они «приходят на ум» в связи с итоговой строфой романа (Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 599).
16
Пчела // Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 516.
17
«Все перечисленные здесь персонажи детских „ужасов“ и „вымыслов“, – констатирует В. А. Кошелев, – герои „Сказки о славном и сильном богатыре Бове-королевиче и о прекрасной королевне Дружневне и о смерти отца его Гвидона“. Именно здесь, в многочисленных рукописных, печатных и устных вариантах лубочной повести, встречаются и Бова, и „нехорошее мертвецкое баловство“, и Полкан (получеловек-полуконь), и Добрыня (так в некоторых вариантах именовался слуга Бовы: „Верный Личарда“)» (Кошелев В. А. Бова Королевич II Кошелев В. А. Пушкин: история и предание. СПб., 2000. С. 110). По предположению В. Я. Проппа, здесь отражены сюжеты, распространенные в лубочной литературе (см.: Пропп В. Я. Мотивы лубочных повестей в стихотворении А. С. Пушкина «Сон» 1816 г.//Тр. отд. древнерусской литературы. Т. 14. М.; Л., 1958. С. 536–537).
18
Снегирев И. Русская народная галерея, или лубочные картинки//Отечественные записки. 1822. № 30. С. 92–93.
19
Снегирев И. О простонародных изображениях//Труды общества любителей российской словесности при Московском университете. Ч. 4. 1824. С. 141.
20
Рукою Пушкина. 2-е изд. М., 1997. С. 459 (пер. с фр.).
21
Обоснование такой датировки см. в ст.: Фомичев С. А. Рабочая тетрадь Пушкина. ПД № 832 (Из текстологических наблюдений) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 12. Л., 1986. С. 241.
22
Хомяков А. С. Поли. собр. соч. Т. 8. М., 1904. С. 40 (второй пагинации). За указание этого факта я благодарен В. Э. Вацуро. Что же касается английского происхождения поэмы о Буово, то, вероятно, это не было совершенной новостью для Пушкина. В конце конспекта из Женгене им отмечено: «Что такое Антона? Роман Реали ди Франчиа помещает ее в Англии, близ Лондона, и говорит, что она была основана Бове, предком Бовы (это вероятно)» (Рукою Пушкина. С. 460).
23
Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 100.
24
Рукою Пушкина. С. 305.
25
См.: Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси. М., 1964. С. 17–24.
26
См.: Кошемв В. А. Первая книга Пушкина. Томск, 1997. С. 120–136.
27
См.: Кошелев В. А. О замысле Пушкина («Мстислав») //Русская литература. 2003. № 1. С. 86–97.
28
Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 53–54.
29
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 7. М., 1955. С. 576.
30
«Ученик и собеседник св. Сергия, Савва пришел уединиться на живописных высотах Москвы-реки, и сын Донского Юрий упросил его основать обитель на Сторожевской горе, где стояла стража от набегов. Иноки заменили воинов…» (Муравьев А. Н. Путешествие по св. местам русским. Ч. 1. СПб., 1846. С. 171).
31
Рукою Пушкина. С. 87–88.
32
Европеец. 1832. Ч. 1. С. 111.
33
Пародийность такого стиля целила в «Историю русского народа» И. А. Полевого, в свою очередь пытавшегося дискредитировать «Историю государства Российского» И. М. Карамзина.
34
Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1999. С. 590.
35
Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. Л., 1973. С. 7.
36
См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. М.; Л., 1928. С. 278.
37
Шишков А. С. Собр. соч. и переводов. Ч. 7. СПб., 1826. С. 42, 53,47.
38
Там же. С. 36.
39
По основательному предположению Ф. Я. Приймы, Пушкин имел здесь в виду фразу: «Не тако ли, рече, река Стугна, худу струю имея…» и пр. (Прийма Ф. Я. «Слово о полку Игореве» в русском историко-литературном процессе первой трети XIX в. Л., 1980. С. 172).
40
См.: Смолицкий В. Г. Вступление в «Слово о полку Игореве» // Тр. отд. древнерусской литературы. Т. 12. М.; Л., 1956. С. 5–9. Иную точку зрения см.: СоколоваЛ. В. Зачин «Слова о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 1986. С. 65–74.
41
Коль господа чинят несправедливость, крестьяне должны платиться жизнью (словенск.).
42
См.: Лихачев Д. С. Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 1986. С. 9–28.
43
Русская старина. Т. 40. № 10. С.155.
44
Впрочем, существует и народная легенда «Поездка в Иерусалим»: «Какой-то архимандрит встал к заутрине; пришел умываться, видит в рукомойнике нечистый дух, взял ево да и загородил крестом. Вот дьявол и взмолился: „выпусти, отче! Каку хошь наложь службу – сослужу!“ Архимандрит говорит: „свозишь ли меня между обедней и заутриной в Ерусалим?“ – „Свожу, отче, свожу!“ Архимандрит ево выпустил и после заутрины до обедни успел съездить в Ерусалим, к обедне поспел обратно. После забрали как-то справки, – все удивились, как он скоро мог съездить в Ерусалим, спросили ево, и он рассказал это» (Народные русские легенды, собранные А. Афанасьевым. Лондон, 1859. С. 75. В примечаниях к этой легенде составитель заметил: «Перейдя в область народной литературы, сказание это, без сомнения, должно было подчиниться различным переделкам и изменениям; в устах народа появилось оно во множестве вариантов, далеко отступающих от своего первоначального источника, но тем не менее любопытных своими характеристическими подробностями»).
45
Пушкин А. С. Лицейские стихотворения. СПб., 1999. С. 14. Далее сноски на это изд. см. в тексте.
46
Листов В. С. Вокруг пушкинского отрывка «На тихих берегах Москвы…»//Болдинские чтения. Горький, 1980. С. 168.
47
Памятники литературы Древней Руси. XTV– середина XV века М., 1981. С. 454.
48
Дурново Н. Н. Легенда о заключенном бесе в византийской и старинной русской литературе//Древности. Труды славянской академии… М., 1907. С. 54–152, 319–326.
49
Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. Л., 1973. С. 157.
50
В. С. Листов эти строки считает намеком на праздник Покрова (1 октября). Более рискованным нам кажется его предположение о том, что в плане продолжения поэмы могла быть изображена поездка не в град Давидов, а в близлежащий Ново-Иерусалимский монастырь на Истре: Листов В. С. «Голос музы темной…» К истолкованию творчества и биографии А. С. Пушкина. М., 2005. С. 225–228.
51
Церковно-народный месяцеслов на Руси И. П. Калинского. М., 1990. С. 68.
52
Об этом фрагменте см.: Неизданный Пушкин. Вып. 1. СПб., 1996. С. 42–45.
53
См.: Цявловская Т. Г. Влюбленный бес (неосуществленный замысел Пушкина) // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 3. М.;Л., 1960. С. 101–130.
54
См. также факсимильное издание: Пушкин А. С. Рабочие тетради. Т. 4. Петербург; Лондон, 1996.
55
Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 9. СПб., 1824. С. 8. Далее, при ссылках на этот том номера страниц (или порядковый номер карамзинских примечаний, помещенных в конце тома, без обозначения нумерации страниц) указываются в тексте статьи.
56
Когда в пушкинском плане намечались сцены с двумя (и более) участниками, они обозначались через союз «и»: «Годунов и колдуны», «Пушкин и Плещеев на площади», но «монахи беглецы».

