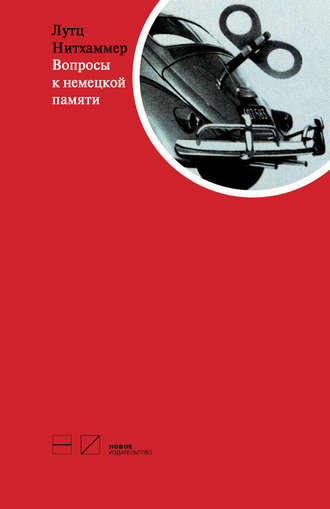
Полная версия
Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории
В этой концепции памяти, на которой базируются также церковный институт исповеди и разнообразные формы приватных разговоров, сконцентрирован вековой общественный опыт. Он свидетельствует о присутствии и активности воспоминаний, давая примеры того, как они бывают важны, как они мешают жить, как они обременяют, как они могут быть хотя бы на время заменены забвением, маскирующими воспоминаниями, ложью. Эти примеры, однако, ничего еще не говорят о том, насколько память способна восстанавливать былые впечатления в менее болезненных ситуациях.
Из трех упомянутых в начале сеттингов социологическое интервью, которое в качестве интервью-рассказа часто даже считают синонимом устной истории {14}, – это то, в котором воспоминание постоянно перерабатывается и документируется в виде текста, но вместе с тем в нем же и наименьшее значение придается содержанию воспоминания, а большее – актуальному влиянию на него со стороны окружающего общества. Там, где воспоминания принимаются обществом всерьез как способ подступиться к былой реальности и проверяются в соответствии с общепринятыми правилами, т. е. путем сличения свидетельств, там они высказываются и оцениваются в таких условиях, которые до крайности ограничивают субъективность свидетеля и подчиняют ее представленной в лице судьи перспективе общества. А психоаналитический сеттинг базируется на собственной силе воспоминаний (даже неосознанных) и на такой обстановке, которая призвана обеспечить максимум самостоятельной работы памяти; но за счет действия переноса этот сеттинг вызывает повторную встречу с отрезком первичной социализации; он недоступен для любопытствующей общественности и не порождает никакого текста, способного стать историческим преданием.
При виде такого кривого зеркала работы общественной памяти мне кажется уместной прежде всего позиция информированного скептика в отношении к устной истории, поскольку она заимствует определенные элементы от каждого из трех описанных сеттингов: не превращается ли она из-за этого в «молочно-пушную свинью-несушку», в методологически беспечное смешение добрых намерений, которыми, как известно, вымощена дорога в ад? Или иными словами: как должно быть выстроено и понято интервью-воспоминание, чтобы ответ на этот роковой вопрос не оказался положительным? Прежде всего нужно ясно отдавать себе отчет в том, какие компоненты являются общими для интервью-воспоминания и других сеттингов; затем следует проверить, одинаковы ли они тут и там, не изменяются ли они, не связываются ли они; и наконец, нужно подумать о том, в контексте какой практики мы занимаемся устной историей, потому что историк не может предоставлять никаких терапевтических услуг, у него нет ни власти, ни критериев, чтобы кого-то судить, и он не продуцирует такого знания, которое служило бы руководством к действию.
Общее между интервью-воспоминанием и социологическим интервью {15} – то, что оба являются инструментом науки, т. е. связаны с публичным знанием и воспроизводимыми исследовательскими процедурами. Этим инструментом в ходе разговора создается пригодный для анализа текст. Инициатива принадлежит исследователю, выбор собеседников и содержание интервью вытекают из его исследовательского интереса и из их готовности говорить хотя бы приблизительно на заданную тему. Поэтому разговор носит характер соблазнения или неравного обмена; в случае с интервью-воспоминанием это несколько смягчается за счет того, что многие респонденты в своих ответах усматривают не только любезность по отношению к интервьюеру или к науке, но также отчасти и свое завещание, которое они иначе едва ли смогли бы оставить своему ближайшему окружению. В большинстве случаев за беседой встречаются представители разных социально-культурных групп, каждый со своим особым габитусом, восприятие которого собеседниками определяет стратегию разговора, каждый со своим особым арсеналом способов обмана, которыми он в ходе разговора выманивает или утаивает сведения, и каждый со своими особыми самообманами. Самый частый самообман исследователя состоит в том, что он думает, будто в чем-то превосходит интервьюируемого, а также призван и способен ему как-то помочь. Возможно, это налагаемое им самим на себя наказание за неравный обмен. Самый частый самообман респондентов – особенно при глубинных интервью – состоит в том, что у них поначалу бывают нереалистичные ожидания в отношении исследовательской практики, с которой они сталкиваются, и что потом в ходе долгого интервью у них складываются личные отношения с интервьюером, в результате чего они забывают, что перед ними не только этот человек, но и фигура, представляющая научную работу, индустрию культуры или другие институты, заинтересованные в использовании получаемой от них информации.
С допросом {16} интервью-воспоминание роднит тот опыт, что люди обладают пластичной памятью, которая позволяет им точно описывать впечатления, полученные более или менее давно. Но память эта ограничена непроизвольными утратами (забыванием), а выражение плодов ее работы может изменяться под сознательным, волевым воздействием (ложь, искажение, умолчание и т. п.). С другой стороны, способность человека вспоминать может быть поддержана и расширена с помощью уточняющих вопросов, предъявления ему сведений из других источников и демонстрации противоречий между его словами и этими сведениями либо между разными частями его высказываний. Это значит, что между активной памятью и полным забвением есть еще зона латентных воспоминаний, которые можно активировать с помощью информации и взаимодействия с собеседником. Опыт показывает, что эти зоны невозможно четко отделить друг от друга, поэтому одно отдельно взятое воспоминание, каким бы убедительным, правдоподобным и информативным оно ни казалось, не может на этом основании быть объявлено истинным. Но путем сопоставления нескольких воспоминаний, каждое из которых проверено на непротиворечивость, убедительность, мотивацию и контекст высказывания, реконструкция события или явления может быть насыщена данными. Когда наступит такая степень насыщенности, которая позволит сделать ответственные заключения, с теоретико-эпистемологической точки зрения точно определить нельзя. Эта критическая точка зависит от сложности описываемого явления, от дистанции между исследователем и его предметом, от того, что ему известно из опыта, и от того, каковы конвенции в данной области. В суде принято считать факт установленным, если о нем говорят два свидетеля; в устной истории этого, как правило, недостаточно, ибо в ней невозможно осуществлять строгий процесс доказательства, предусматривающий институционализованную ролевую игру и привилегированный доступ к информации, а кроме того, ее цель в большинстве случаев – реконструировать значительно более сложные и далеко отстоящие во времени факты, нежели прошлогоднее преступное деяние {17}. Но там, где нет других источников информации, вполне разумно предпринимать насыщенную за счет нескольких проверенных свидетельств-воспоминаний реконструкцию (например, реконструкцию общих условий жизни некоей сравнительно гомогенной группы населения некоего региона), если при этом помнить о том, что результат подобной процедуры будет носить приблизительный характер.
Но чаще всего в интервью-воспоминаниях важны не только свидетельские показания по тем или иным фактам, но прежде всего – субъективность участников, проявляющаяся в их характере и ожиданиях, в их особом взгляде, в том, как соединяются друг с другом, казалось бы, совершенно не связанные сферы опыта, и в том, как этот опыт перерабатывается. Ибо эту субъективность, которая в историографии, посвященной господствующим слоям общества, всегда сосуществовала в странном симбиозе со всеобщей историей, устная история стремится вернуть в историю и для других членов общества – даже при том, что от этого может снова развалиться понятие истории, сделанное единым при утверждении буржуазного общества: именно это имеется в виду под несколько беспомощными формулами «история снизу» или «демократическая история» {18}.
Если сравнить сеттинг биографического интервью и психоанализа {19}, то прежде всего становится ясно, чем такое интервью не является: это не терапия, не изучение содержания ранних биографических этапов, не проработка индивидуальных вытеснений и т. д. За счет этого смягчаются ожидания относительно вклада такого интервью в прояснение «субъективного фактора». Но все же видны и некоторые общие черты. Одна такая черта – допуск в сознание всплывающих воспоминаний и установление ассоциативных связей между ними, когда субъект приближается к трудным моментам своей биографии и, ощущая потребность разъяснить свои воспоминания, снова активирует в беседе то, что было забыто. Для этого требуется собеседник, который не заявляет слишком больших ожиданий, не задает схемы, не думает, что все уже знает и просто своими вопросами получает и структурирует примеры и свидетельства, тот, кто с любопытством слушает, идет вслед за рассказчиком окольными путями, внимательно следит за побочными линиями действия и рассказывает о том, что он чувствует и что ему не нравится, дабы рассказчик имел шанс решить – вернуться ли ему к той или иной потерянной нити в разговоре, заполнить ли оставленную лакуну, может ли он и хочет ли он опровергнуть первые приходящие на ум толкования? Эта смесь из сдержанного, но благожелательного внимания и дистанцированной, но восприимчивой позиции слушателя делает биографические рассказы интересными. Правда, она предполагает, что интервьюеру – в отличие от обычного сеттинга интервью – удается частично переложить инициативу на рассказчика, а также, что его восприимчивость и способность по-человечески сопереживать натренированы на анализе собственной биографии.
Другая общая черта устной истории и психоанализа касается концепции биографической субъективности как посредующего звена между ранним воспитанием в лоне семьи и позднейшей жизнью в обществе, так как здесь обнаруживается общая точка опоры и методическая зона пересечения – фаза юношества {20}. Устная история, как и всякая другая, лишь очень редко позволяет увидеть первичную социализацию изнутри, в то время как сеттинг психоанализа разве что в субъективно-урезанном виде допускает воспоминания об опыте общественных конфликтов, пережитых взрослым человеком. Жизненный кризис подростка в общем контексте биографической субъективности с обеих сторон играет все более важную роль, и его следует изучать междисциплинарно, методами как психоанализа, так и устной истории.
Несомненно, между компонентами интервью-воспоминания существуют противоречия. Как можно, например, одновременно быть психоаналитически подготовленным, сдержанным комментатором биографических фрагментов и профессионально подготовленным следователем, расследующим обстоятельства, относительно которых интервьюируемый субъект сообщает лишь одно свидетельство из многих? Как можно стремиться к тому, чтобы использовать асимметричную коммуникативную форму интервью в качестве инструмента для достижения большего равноправия в истории? Спастись от таких противоречий можно было бы, заявив, что могут быть разные формы интервью-воспоминания в зависимости от того, что интересует интерпретатора. И с точки зрения практики это даже так и есть. Но с точки зрения методологии противоречие таким способом не снимается, и было бы ошибкой стремиться полностью его устранить, так как исторический интерес, с одной стороны, эвристически ведет исследователя за пределы того, что он уже знал до интервью, а с другой стороны, стремится скорректировать это знание посредством обращения к источникам {21}. Эта двоякая стратегия историка определяет характер и структуру интервью-воспоминания, и в его практике те элементы, которые кажутся гетерогенными, сплавляются воедино. В результате возникает концепция интервью, согласно которой интервьюер должен быть как можно лучше знаком с изучаемыми фактами и вооружен целой обоймой релевантных вопросов (а также набором стандартных социально-статистических данных), чтобы собирать пригодные для сравнения свидетельские показания и обширный социально-исторический материал, который служит как реконструкции былых реалий, так и имманентной пригодности отчета об интервью для интерпретации. Но не менее важно, чтобы интервьюер выделял своему собеседнику место и уделял внимание, дабы тот мог заполнить их самостоятельно оформленной историей своей жизни и другими ассоциативно связанными с ней воспоминаниями.
Такие свободные пространства для воспоминаний не следует путать с «открытыми вопросами» в полуформализованных интервью, какими пользуются в полевых исследованиях социологи. У них беседа в принципе выстроена по плану – иначе и нельзя, так как стандартизованные фрагменты должны быть сравнимы друг с другом; только после определенных вопросов-импульсов, место которых в структуре беседы заранее задано, оставляются более или менее растяжимые пустые пространства, которые может заполнить сам респондент {22}. В устной истории интервью не подчинено этому требованию измеримой сравнимости, потому что реконструктивный и ассоциативный характер воспоминаний позволяет сравнивать в лучшем случае их содержание, но не форму изложения. Фактические вопросы в таком интервью служат сбору социально-исторического материала, и их стандартизация есть прежде всего подспорье для интервьюера, но он может свободно менять их последовательность {23}. Каждый вопрос, даже если изначально это вопрос о годе окончания школы, в интервью-воспоминании является «открытым» – в том смысле, что допускает все «лирические отступления» памяти, которые могут быть им спровоцированы. Если в ответ на вопрос об окончании школы респондент бормочет, как бы нащупывая ответ, что-нибудь вроде: «Это так чудно тогда было…», то только плохой интервьюер скажет: «Давайте для начала восстановим ход событий. Вы после школы стали учиться дальше?»; хороший же интервьюер для начала отложит свой вопросник и поинтересуется, что именно было тогда чудно, а свои вопросы вновь начнет задавать только после того, как респондент закончит свою цепочку ассоциаций, которая может начаться с какого-нибудь происшествия во время выпускного вечера и увести, например, к судьбе кого-то из одноклассников во время войны.
Итак, в интервью-воспоминании постоянно нужно оставлять пространство для того, чтобы респондент мог нащупать свои воспоминания и облечь их в такую форму, какую сам выберет. Во всяком случае, это необходимо в начале, чтобы человек мог рассказать историю своей жизни первый раз в таком порядке и с такой расстановкой акцентов (и с такими умолчаниями), какие ему привычны или какие он считает уместными для разговора с «агентом» науки или публичной сферы. Это будет не только само по себе такой формой культурной репрезентации, которая достойна исторической фиксации {24}: в высказываниях и лакунах выстроится структура, с которой могут посредством дополнительных вопросов ассоциироваться другие воспоминания. Этот процесс имманентных ассоциаций следует продолжать так долго, как позволят обоим собеседникам их терпение и способность к восприятию. В некоторых случаях этот процесс может затянуться на несколько встреч, между которыми процесс воспоминания зачастую не прерывается, так что к следующему разу интервьюера ждет множество новых историй, а иногда также фотоальбомов и писем. Только тогда, когда этот процесс завершится сам собой, интервьюер вернется к заготовленному списку вопросов, но теперь уже будет достаточно задать только те из них, на которые еще не был получен ответ в ходе самостоятельного рассказа или свободного разговора. Эти оставшиеся вопросы, в свою очередь, тоже могут спровоцировать новые ассоциации. В других случаях респондент с недоверием относится к такой игре, декламирует вначале автобиографию «как для отдела кадров», а на дополнительные вопросы отвечает кратко или вовсе словами «как я уже сказал», и при этом все же говорит потом: «Что еще вы хотите узнать?» Это хорошо, потому что тогда бедный интервьюер может достать свой список вопросов и идти по нему, и в таких случаях респондент, как правило, все-таки рано или поздно незаметно для себя поддается потоку своих воспоминаний и ассоциаций, и игра начинается.
У читателя может возникнуть впечатление, будто таким образом запускаются процессы, которым нет конца. Когда мы приступали к нашему проекту, я опасался, что интервью может перетечь в своего рода психоаналитический процесс, а этого мы за отсутствием собственного опыта брать на себя не могли. Практика показала, что эти страхи имели свою причину скорее во мне, чем в наших респондентах. Сравнение сеттингов показывает, что в психоаналитический сеанс невозможно «скатиться»: для этого требуется значительная собственная инициатива и особая обстановка изолированности от внешнего мира. Хотя здесь наблюдаются культурные и социальные различия, все же в целом люди во время интервью в жанре устной истории вполне отдают себе отчет, кто от кого чего хочет, а работающий магнитофон и регулярная смена кассет напоминают им о том, что рассказанное не останется между ними и интервьюером {25}.
Если в интервью вдруг всплывают воспоминания о травматическом опыте, которые человек обычно вытеснял на периферию своего сознания, то интервью может помочь ему не больше, но и не меньше, чем любой другой разговор: человеческое участие, при необходимости – молчание; по желанию респондента такие эмоциональные фрагменты разговора стираются с пленки. Но многие этого и не требуют, потому что рассматривают эти чувства, после того как те выйдут наружу, в качестве части своей подлинной истории и часто испытывают некоторое облегчение от того, что смогли их выразить. Но социальная ситуация интервью ставит, как правило, более тесные границы для рассказываемых воспоминаний, чем, например, откровенный разговор незнакомых «вагонных попутчиков». Интервьюер в подобных случаях не имеет права покидать свою участливо-пассивную позицию по отношению к ассоциациям респондента и «докапываться». Это этически неприемлемо, поскольку он не сможет ничем помочь рассказчику, если ситуация станет для того эмоционально тяжелой; но это кроме того обычно и неэффективно, поскольку человек немедленно закроется, как только заметит, что нахлынувшие на него эмоционально нагруженные воспоминания и сильные чувства, вырвавшиеся из-под его контроля, собираются эксплуатировать в исследовательских целях. А если проект специально нацелен на изучение специфического травматичного опыта – как, например, у бывших узников концлагерей и других жертв насилия, – тогда есть веские основания для исторического документирования таких эмоциональных рассказов, и оно может соответствовать пожеланиям самих респондентов. Но тогда ни в коем случае нельзя проводить подобные интервью без психологического сопровождения {26}. Ведь предметом разговора является здесь историчность личной травмы, а пережитые людьми унижение или опасность для жизни зачастую бывали такими глубокими, что некоторые из жертв сумели вернуться к самостоятельной жизни только за счет того, что им удалось как бы заключить этот экстремальный опыт в герметическую капсулу в своей памяти. Возможно ли, допустимо ли (и при каких условиях) нарушить этот процесс рубцевания – вопросы, на которые историк отвечать не компетентен. Он может только в той мере сотрудничать с интервьюируемым человеком в деле производства публичного исторического знания, в какой тот может и хочет что-то ему сообщать.
Но, как показывает опыт, в обычных условиях люди могут вспомнить и считают достойным рассказа не столь уж многое. Длительность интервью в проектах по устной истории сильно различается от темы к теме и еще больше – от респондента к респонденту, но чтобы интервью было действительно содержательным, оно требует двух встреч по несколько часов каждая как минимум – но иногда и как максимум. После четырех-пяти встреч в подавляющем большинстве случаев разговор замирает, а договоренности о новых встречах добиться все труднее {27}. Исключения составляют лишь немногие интервью, как правило, ярко выраженного автобиографического характера {28}. А иногда ассоциативный процесс припоминания вовсе не «запускается» – потому ли, что интервьюируемый его избегает, или потому что интервьюер кажется ему несимпатичным, незаинтересованным или не вызывающим доверия; в таких случаях интервью оказывается неудачным, даже если на все вопросы из списка получены ответы.
К числу элементов саморегуляции в сеттинге относится и сама готовность дать интервью-воспоминание. Поначалу у меня были сомнения по поводу того, сумеем ли мы найти достаточное количество «добровольцев», которые согласились бы с нами сотрудничать; этот страх оказался в нашем случае безосновательным: нам очень редко отказывали в интервью те, к кому мы обращались, и был даже целый ряд добровольцев, откликнувшихся на газетные объявления, т. е. проявивших собственную инициативу {29}. И во время разговоров нас часто удивляло, с какой охотой люди вспоминали и рассказывали. Это, должно быть, объяснялось и тем, что опрашивали мы рабочих или тех, кто вышел из их среды, и тем, что в Рурской области приняты открытые формы общения. Если же проанализировать опыт этого и других проектов в том, что касается трудностей с нахождением респондентов и получением от них достаточно обстоятельных сведений, то представляется, что эти трудности связаны с двумя группами факторов: во-первых, таким затрудняющим фактором является принадлежность человека к группе с жестким социальным контролем, который стирает индивидуальное в памяти, подвергает высказывания цензуре или заставляет делать их так, чтобы они не вызывали доверия (например, сохранившееся деревенское сообщество). Во-вторых, это личная неуверенность человека в том, что ему в разговоре с незнакомцем удастся совладать с собственными воспоминаниями {30}.
Все эти ограничения, вытекающие из характера сеттинга интервью-воспоминания, приходится принимать как границы возможностей всей устной истории. Конечно, того или иного потенциального респондента, который сначала отмахнулся от просьбы об интервью, можно убедить с помощью разумного и правдоподобного разъяснения сути проекта, так что он все-таки согласится сотрудничать. Но в остальном рекомендуется избегать всяких попыток раздвинуть эти границы с помощью каких бы то ни было уловок, например, давить на человека с целью принудить его к интервью или во время разговора хитростью вытягивать из него какие-то воспоминания сверх тех, которые он готов сознательно поведать в условиях свободного диалога. Это проблемы этики исследования: народный опыт в истории не следует проявлять в большей степени, чем этого хотят те, кому он принадлежит. Но кроме того, это же и источник ошибок, и ложная экономия в исследовательской работе: человек, который ощущает, что его против воли впутали в ситуацию припоминания {31} (если только дело не происходит на допросе в полиции), имеет массу возможностей выпутаться из этой ситуации: он может вышвырнуть интервьюера за дверь, может спустить интервью на тормозах, может наврать с три короба, а может со всей вежливостью сознательно накормить интервьюера – так, что тот этого зачастую и заметить не сможет, – камуфлирующими воспоминаниями. Интервью-воспоминание – не допрос, а добровольное соглашение, и хрупкие ищущие движения памяти начнутся только тогда, когда в отношениях между собеседниками останется не больше недоверия, чем приличествует подобной встрече.
Если сеттинг со всеми его ограничениями принят, то интервью может дать массу сведений и рассказов о вещах, информация о которых больше нигде не сохранилась. С помощью специального дифференцированного комплекса вопросов эти данные можно проверить на достоверность, а потом, привлекая сопоставимые сообщения, «насытить» их. Особенно щедрыми на подобную информацию оказываются в устной истории два уровня памяти: активный и латентный. На уровне активной долговременной памяти, где лежит то, что постоянно нужно и вспоминается без особых усилий, у людей в нашем обществе хранятся три запаса воспоминаний, которые с большой регулярностью проявляются в ходе интервью-воспоминаний.
Представление человека о своей жизни в целом {32}, состоящее, во-первых, из актуального толкования (принцип конструирования биографии) и, во-вторых, из переработанной реальной информации по нескольким избранным внешним этапам жизни: эта информация никогда не бывает исчерпывающей, но редко бывает ложной. Этот набор можно путем расспросов обычно без труда расширить до более сложного и многостороннего рассказа о внешних условиях жизни (включая последовательность семейных констелляций, профессиональных функций и условий труда, имущественных и социальных статусов и т. д.). Есть обойма стандартных историй, которые рассказывают, как говорится, по любому случаю, и они уже хорошо зарекомендовали себя как коммуникативные блоки. В них могут описываться оригинальные или не оригинальные события и переживания, они могут быть обкатаны вкусами меняющейся аудитории, как галька морской водой. Поэтому их характер слишком произволен и случаен, чтобы их использовать для исторической реконструкции, но они могут содержать в себе интересные свидетельства переработки опыта и установок респондента, а главное – стиля его коммуникации с окружением.

