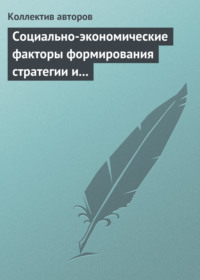Полная версия
Память о блокаде. Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества: Материалы и исследования

Память о блокаде
Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества: Материалы и исследования
Предисловие
Эта книга представляет результаты работы двух исследовательских проектов, реализованных в Центре устной истории Европейского университета в Санкт-Петербурге в 2001–2003 годах. Первый проект назывался «Блокада в судьбах и памяти ленинградцев» (руководитель – к.и.н. Е. И. Кэмпбелл). Второй, его продолжение, – «Блокада Ленинграда в индивидуальной и коллективной памяти жителей города» (руководитель – к.и.н. В. В. Календарова). «Блокада в судьбах и памяти ленинградцев» – проект в рамках программы создания учебного центра подготовки специалистов в области устной истории, осуществлявшейся в Европейском университете в 2001–2002 годах. Благодаря этой программе в Центре устной истории сформировалась группа исследователей, сотрудников и аспирантов университета. В ходе двухлетней работы участниками проекта была собрана коллекция интервью с людьми, пережившими блокаду Ленинграда 1941–1944 годов, а также с представителями послевоенного поколения, чьи родители находились в городе во время блокады.
Результаты этих двух проектов и легли в основу настоящего издания. Представленные здесь статьи разных авторов объединяет и одновременно отличает их от огромного количества исследований, посвященных блокаде Ленинграда, тот факт, что в центре внимания здесь находятся не столько реальные события рассматриваемой эпохи, сколько отражение этих событий в сознании современников и их потомков. Тот образ или те образы блокады, которые оказались запечатленными в самых разных формах – в исторической литературе, официальных изданиях, на страницах ленинградской печати послевоенных десятилетий, в архитектурных памятниках, и наконец, в памяти простых ленинградцев, переживших войну и блокаду.
Блокада получила отражение во многих дневниках и мемуарах. Безусловно, не является чем-то принципиально новым и запись устных рассказов очевидцев и участников блокады: достаточно вспомнить здесь выдающийся памятник отечественной документалистики «Блокадную книгу» Д. Гранина и А. Адамовича, не говоря уже о множестве любительских записей, сделанных в разные годы участниками школьных поисковых отрядов, краеведческих кружков, различных общественных объединений и движений. Другое дело, что профессиональные историки не так уж часто обращались к этим документам как к историческим источникам – особенно если речь шла о воспоминаниях рядовых ленинградцев, не принимавших значимых для судеб города решений. С одной стороны, их рассказы зачастую не представляли существенного интереса для исследователей, изучавших блокаду Ленинграда с точки зрения «большой истории» – хода Великой Отечественной войны, политической и военной истории страны в середине XX века. Большинство фактов, упоминавшихся в этих свидетельствах и относящихся к деятельности различных советских и партийных организаций, армейских формирований, промышленных предприятий, учреждений науки и культуры в блокадном городе, все равно нуждалось в проверке по документальным источникам и подчас страдало значительными неточностями. С другой стороны, воспоминания жителей блокадного города, особенно устные рассказы, несли и несут в себе огромный эмоциональный заряд, правду личного опыта свидетеля и участника исторических событий. Историку, особенно родившемуся уже после войны, психологически сложно подходить к этим рассказам с той же меркой, с какой он подходит к любому другому свидетельству: ведь это неизбежно означает подвергать оценке, определять степень достоверности, соизмерять с какими-то другими данными, возможно, даже оспаривать. Конечно, свою роль здесь сыграли и известные идеологические ограничения советского периода, и просто те этические рамки, которые устанавливает любое цивилизованное общество при обсуждении вопросов жизни и смерти в предельно экстремальной ситуации. Однако думается, что все же самой серьезной преградой, стоящей на пути анализа воспоминаний людей, переживших блокаду, является особое место, отводимое этим рассказам в общественном сознании эпохи, не утратившей еще эмоциональную связь с событиями военных лет. Воспоминания блокадников, как и других рядовых участников войны, обладают в глазах современников непререкаемым нравственным авторитетом и потому занимают в сознании общества особое пространство, отличное и даже противоположное по духу профессиональной историографии.
Заметим, что воспоминания блокадников лишь высвечивают эту проблему с особой остротой – их критический разбор может особенно болезненно восприниматься ленинградцами старшего поколения. Кроме того, эта проблема неизбежно возникает, когда речь заходит о том, каким образом следует историку, да и просто читателю, подходить к воспоминаниям людей, чья эпоха еще не канула безвозвратно в прошлое.
Как известно, устные рассказы очевидцев использовались историками еще со времен Геродота. Однако, по мере того как ученые занятия историей превращались в науку, то есть в особую область институционализированного знания, вполне доступного лишь специально подготовленным профессионалам, рассказы людей о прошлом, передающиеся в устной традиции, вызывали все меньший интерес и доверие исследователей. Становление исторической профессии во второй половине XIX – первых десятилетиях XX века было теснейшим образом связано с формированием позитивистской парадигмы в историографии, как известно, ставившей задачу объяснить прошлое исходя из эмпирических фактов, воссоздаваемых путем изучения и критики документальных источников. Напомним, что в соответствии с этой задачей все источники располагались в иерархической последовательности по степени их ценности для исследователя. Источники личного происхождения при этом оказывались на нижних ступенях такой иерархии за неизбежно присущий им субъективизм. Дневники всегда ценились выше мемуаров (поскольку к субъективизму автора в мемуарах добавляются еще искажения, внесенные позднейшей переоценкой и переосмыслением событий), а устные воспоминания не рассматривались вовсе – очевидно, как не являющиеся настоящими свидетельствами о прошлом. В такой перспективе профессиональная историческая наука представлялась явлением, в корне отличным от бытующей в обществе традиции – коллективной памяти о прошлом1.
XX век, однако, внес свои коррективы. С одной стороны, колоссально изменились средства коммуникации: появление телеграфа, телефона, радио и телевидения, авиасообщений самым радикальным образом сказалось на характере источников, с которыми историкам приходится сталкиваться в своей работе. С другой стороны, изменение социальной структуры общества в XX веке, его демократизация, особенно заметная в Европе и Америке в послевоенные десятилетия, привела к тому, что сфера интересов исторической науки значительно расширилась – в поле зрения историков попала повседневная жизнь обычного человека. Эти процессы (изменения в средствах коммуникации и стремление к демократизации исторической науки) и привели к появлению «устной истории» – особого направления исторической науки, ориентированного на работу с устными рассказами-воспоминаниями.
В нашей стране сам термин «устная история» стал использоваться сравнительно недавно. Его появление в работах конца 1980-1990-х годов несомненно связано с обращением отечественных историков к опыту своих зарубежных, в первую очередь западноевропейских и североамериканских, коллег, знакомство с которым по-настоящему состоялось только в годы перестройки. Между тем и в нашей стране в 1920-1930-е годы инициированием и записью устных воспоминаний очень активно занимались исследователи, изучавшие историю профсоюзного движения, историю Гражданской войны, историю фабрик и заводов. Очевидно, однако, что в условиях жесткого идеологического контроля эти начинания неизбежно рано или поздно ставили исследователей в сложное положение – хотя бы уже потому, что они с очевидностью обнаруживали существование в советском обществе различных настроений, «неудобных» воспоминаний, неортодоксальных интерпретаций прошлых событий. Свою роль, вероятно, сыграло и то обстоятельство, что советская историческая наука твердо усвоила основные принципы позитивистского подхода к истории – и потому устные воспоминания, как источники личного происхождения, к тому же сильно отстающие по времени от описываемых в них событий, расценивались серьезными исследователями достаточно скептически. Таким образом, к началу перестройки запись и изучение устных рассказов о прошлом воспринимались как занятие для любителей-краеведов или представителей других профессий (писателей, журналистов), но не для профессиональных историков2. В силу этих обстоятельств устная история представляется многим лишь результатом заимствования. Можно сказать, что история устной истории в нашей стране еще не написана. Главное же – очень многие вопросы, принципиальные для понимания особенностей и границ возможностей устной истории как метода исследования, только становятся в России предметом широкого обсуждения среди историков, социологов, журналистов, словом, всех тех, кто использует в своей работе устные рассказы о прошлом. Поэтому мы неизбежно вынуждены повторять здесь некоторые основополагающие положения, выдвинутые несколькими десятилетиями ранее, в ходе подобных же споров и дискуссий среди историков в различных странах Западной Европы и Северной Америке (об истории возникновения устной истории в странах Западной Европы и Северной Америки см.: Бэрг 1976; Урсу 1989; Лоскутова 2000: 5-31; Томпсон 2003а; Thompson 1988; Oral History 1996).
Вполне естественно, что в первые десятилетия своего существования на Западе (1950-1970-е годы) устная история, желая доказать свое право на существование в университетах и исследовательских центрах, стремилась следовать канонам, выработанным позитивистской историографией. Исследователи, использовавшие в своих работах методы интервью, ставили своей целью прежде всего поиск фактов, не отраженных в известных письменных документах, подчеркивая достоверность устных рассказов, способность человеческой памяти – подобно письменным источникам – сохранять информацию на протяжении длительного времени. Для некоторых представителей социальных наук такое прочтение устной истории, в первую очередь как метода сбора данных о событии, актуально и по сей день3. В то же время часто у тех, кто в первый раз сталкивается с этим направлением, возникает впечатление, что устная история – это своеобразное «окно в прошлое», альтернативный профессиональному историческому исследованию способ проникнуть в навсегда ушедший мир. Если историки реконструируют прошлое по документам, то рассказчик-очевидец и участник событий воспринимается аудиторией как «живое свидетельство», его воспоминания, как может показаться, способны заменить собой анализ и комментарий и позволяют читателю или слушателю «увидеть» прошлое «своими глазами».
Концептуальная несостоятельность и наивность подобного отношения к устной истории (столь свойственного очень многим представителям этого направления в Европе и Северной Америке в конце 1960-х —1970-е годы) была хорошо продемонстрирована целым рядом работ (см., например: Frisch 1979; Фриш 2003: 52–65). Действительно, в интервью мы неизбежно видим прошлое глазами респондента, к тому же отстоящего от описываемых событий на многие десятилетия своей жизни. Речь идет не только о том, что прошлое забывается: меняются взгляды рассказчика на окружающий мир, на историю своей страны, на свою собственную жизнь – и эти изменения, безусловно, отражаются в его воспоминаниях. С точки зрения позитивистской историографии эта особенность интервью – его ощутимый недостаток как исторического источника: только последовательно и настойчиво применяя специальные приемы исторической критики, из него можно вычленить крупицы «фактов», отбросив все субъективные суждения респондента как ненужный материал. При таком подходе, однако, мы рискуем полностью выхолостить рассказ очевидца и участника событий. К тому же, закрывая глаза на субъективизм рассказчика или вынося его «за скобки» исследования, историк невольно рискует поддаться соблазну и придать статус «факта» тем взглядам респондента, которые созвучны его собственной позиции. Между тем все другие суждения и оценки рассказчиков будут им отброшены как несущественная для дела «интерпретация» неспециалиста.
Поэтому интерес исследователей в последние несколько десятилетий вполне закономерно сместился в сторону изучения субъективной стороны воспоминаний. Внимание ученых оказалось привлечено не столько к поиску неизвестных фактов, сколько к их интерпретации представителями различных групп и слоев общества. Для нового поколения историков субъективизм устных повествований перестал олицетворять недостаток этого вида источников, став достоинством. Примерами подобных работ могут служить известные исследования А. Портелли, Л. Пассерини, Л. Нитхаммера, Г. Розенталь, посвященные проблемам самосознания и исторической памяти итальянского рабочего класса периода фашистской диктатуры и послевоенного периода, общественного сознания и исторической памяти жителей Западной и Восточной Германии, переосмысления ими всей эпохи национал-социализма и Второй мировой войны (Portelli 1991:1-26; Passerini 1987; Niethhammer 1995; Rosenthal 1989; Rosenthal 1993). Эти работы оказали на нас стимулирующее воздействие, во многом послужив образцом для исследования взаимодействия индивидуальной и коллективной памяти о блокаде Ленинграда. Особенно притягательным для нас в этих исследованиях оказалось стремление их авторов внимательно отнестись к тому, как сами респонденты интерпретируют события своей жизни, жизни своего города, своего класса, своей страны. Анализ и оценка прошлого, всегда имплицитно присутствующие в рассказах интервьюируемых, не отбрасывались этими авторами как заведомо «ненаучные», малоинформативные суждения «людей с улицы», не посвященных в тайны большой политики. Напротив, именно сложный процесс постоянного осмысления и переосмысления своей судьбы в контексте истории всего общества находится в центре исследовательского внимания в названных здесь работах. Именно в таком ключе мы стремились подойти к собранным нами интервью, посвященным истории блокады.
Устные воспоминания, собранные историками, всегда субъективны. Не только потому, что они отражают субъективные взгляды респондента, – в них неизбежно отражается и личность исследователя, проводящего интервью. Всякому, кто занимался устной историей, знакомо чувство: проводи это интервью другой человек, в другой день, в других обстоятельствах, все было бы иначе, и рассказ респондента был бы совсем другим. Эта особенность присуща устной истории, в ней, возможно, заключается главный недостаток этого направления с точки зрения исследователей, привыкших работать с письменными документами, но в ней же заключена и та притягательная сила, которая побуждает людей заниматься собиранием и изучением устных рассказов-воспоминаний. В настоящем издании каждый из авторов предлагает свою интерпретацию интервью, собранных им или его коллегами из Европейского университета в Санкт-Петербурге. Мы осознаем, что исследовательское прочтение, исследовательская трактовка этих воспоминаний может радикально расходиться с тем, как понимают свой рассказ и описываемые в нем события сами респонденты. Предлагаемая здесь интерпретация ни в коей мере не отрицает право жителей блокадного Ленинграда самим решать, чем были для них и для города, для страны в целом трагические и героические события 1941–1944 годов. Авторы лишь предлагают читателю свое осмысление этих воспоминаний в контексте нашего общего исторического прошлого.
Такое понимание устной истории не только сместило акценты с прошлого на настоящее, но и интегрировало подходы различных гуманитарных дисциплин: истории, социологии, социолингвистики и тому подобное. Книга, созданная по результатам этих двух проектов, включает статьи специалистов, представляющих различные дисциплины – историков, этнологов, искусствоведов, чьи работы связаны с изучением механизмов формирования образа блокады Ленинграда в общественном сознании, в памяти жителей блокадного города и их потомков. Внимание исследователей привлекли не только те представления о блокаде, которые восходят к личному биографическому опыту ее свидетелей, но и те, что сложились в официальном советском дискурсе послевоенных лет. Именно это определило структуру сборника. Несмотря на то что основное внимание в предлагаемых здесь авторских статьях уделено не самому событию, а его репрезентации, публикуемые здесь воспоминания о блокаде представляют интерес и для более традиционного подхода к анализу устных источников, как содержащие интересный материал о быте, социальных связях ленинградцев в предельно экстремальных условиях жизни в блокадном городе.
Первую часть книги составляют интервью с жителями блокадного Ленинграда, а также с теми ленинградцами, кто родился уже после войны, но чьи родители или другие ближайшие родственники пережили блокаду. Публикация полных текстов интервью, как мы полагаем, позволяет, с одной стороны, познакомиться с тем, что рассказывают и как понимают блокаду наши респонденты, вводит в оборот новый, не использованный ранее круг источников, а с другой – дает возможность самому читателю заглянуть в мастерскую исследователей, согласившись или, наоборот, оспорив их интерпретации, представленные в этой книге.
Вторая часть сборника посвящена анализу интервью. Исследователей интересовали особенности передачи памяти о ленинградской блокаде в воспоминаниях жителей города – непосредственных свидетелей блокады и следующего за ними поколения ленинградцев. Индивидуальная память, символы и риторика в рассказах о блокаде – основа этой главы. Не секрет, что для многих жителей современного Петербурга блокада связывается не столько со школьными уроками истории, сколько с историей своей семьи. Устные свидетельства, основанные на личном опыте или опыте родственников, поэтому становятся одним из наиболее значимых источников в изучении истории памяти о блокаде. Авторы не оспаривают интерпретации событий блокады информантами и не предлагают новой версии; их интересуют причины и условия возникновения того взгляда на блокадное прошлое, которое нашло отражение в анализируемых интервью.
Наконец, третью часть книги составили исследования, в которых рассматривается коллективная память советского общества о блокаде Ленинграда. Очевидно, что для подавляющего большинства обычных людей, не причастных к принятию судьбоносных для страны решений, история предстает именно в виде их собственной биографии. Поэтому, когда в их рассказах возникают темы и образы «большой истории», обобщения и оценки событий, выходящих по своему масштабу и значимости за рамки их повседневного бытия, информанты неизбежно обращаются к уже существующим в обществе моделям осмысления истории. Эти модели не просто служат объяснению смысла прошедших событий – они истолковывают прошлое с точки зрения интересов сегодняшнего дня. Воспоминания о прошлом, как наглядно показал еще М. Хальбвакс, вызываются к жизни потребностью общества в обосновании и осмыслении современности. В Советском Союзе коллективная память общества, безусловно, находилась под жестким идеологическим контролем. Было бы ошибкой, однако, полагать, что контроль и манипулирование исторической памятью – явления, свойственные лишь социалистическим или «тоталитарным» режимам. С течением лет менялось и само советское общество, Советское государство, его идеология, в жизнь вступали новые поколения, родившиеся уже в послевоенное время, соответственно изменения претерпевала и память о блокаде. В статьях этого раздела книги представлен анализ данных изменений в различных сферах, где формируется и находит выражение коллективная память общества – в периодической печати и документальном кино, в исторической литературе, в монументальных памятниках.
Авторы сборника отдают себе отчет в ответственности, ложащейся на каждого, использующего интервью в качестве источника для написания научного исследования. Поэтому во избежание возможных проблем все имена информантов в настоящем издании вымышленные (об этом подробнее см. в специальном разделе о принципах публикации текстов интервью), а все ссылки на интервью приведены без указания имен и фамилий информантов (в тексте статей указывается только номер интервью в архиве Центра устной истории Европейского университета в Санкт-Петербурге).
Авторы и составители сборника выражают глубокую признательность всем откликнувшимся на идею проектов и согласившимся принять участие в интервьюировании.
Оба проекта – «Блокада в судьбах и памяти ленинградцев» и «Блокада Ленинграда в индивидуальной и коллективной памяти жителей города» – оказалось возможным осуществить благодаря внутренним грантам Европейского университета в Санкт-Петербурге 2001 и 2002 годов и финансовой поддержке Фонда Джона Д. и Катерин Т. МакАртуров и Института «Открытое общество» (Фонд Сороса). Проведение международной зимней школы «Устная история: теория и практика» и международного семинара «Война и память» стало возможным благодаря сотрудничеству Европейского университета в Санкт-Петербурге с Индианским университетом (США).
Мы приносим благодарность инициатору создания Центра устной истории первому ректору Европейского университета в Санкт-Петербурге Б. М. Фирсову за неоценимую помощь и неизменную поддержку, без которой была бы невозможна реализация двух исследовательских проектов. Мы выражаем также глубокую признательность первому руководителю Центра устной истории Е. И. Кэмпбелл за огромную работу, сделанную для открытия Центра и налаживания его работы в первый год существования.
За участие в работе двух проектов на разных этапах мы благодарны ведущему научному сотруднику Санкт-Петербургского института истории РАН С. В. Ярову, а также аспирантам и сотрудникам Европейского университета в Санкт-Петербурге И. Е. Гусинцевой, Е. В. Ведерниковой, И. Н. Толстых, Т. К. Никольской, А. В. Чекмасову, О. В. Малиновой, Г. Г. Лисицыной.
За сотрудничество и советы приносим благодарность: заведующему Отделом новой истории России Санкт-Петербургского института истории РАН А. Н. Цамутали, директору Центра независимых социологических исследований В. М. Воронкову, докторанту Университета Констанц (Германия) Андреа Земсков-Цюге, директору Французского колледжа в Санкт-Петербурге Элеоноре Мартино-Фристо, сотрудникам Научно-информационного и просветительского центра «Мемориал» Ирине Флиге и Татьяне Косиновой (Санкт-Петербург).
Мы также глубоко признательны за помощь в ходе работы над проектами и над написанием текстов, вошедших в сборник, за советы и поддержку, за конструктивную критику нашей деятельности преподавателям и сотрудникам Европейского университета в Санкт-Петербурге М. М. Крому, Д. А. Александрову, Н. Д. Потаповой, С. А. Штыркову, Ж. В. Корминой, А. В. Куприянову, О. А. Ткач, О. В. Калачевой.
Кроме того, хотим сказать отдельное спасибо системному администратору Европейского университета в Санкт-Петербурге Д. Ю. Милютину и администратору факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге И. В. Гуркиной за техническую помощь и дружескую поддержку, неизменно оказываемую нам в течение двух лет работы.
Примечания
1 Именно таких взглядов придерживался, в частности, один из крупнейших теоретиков коллективной памяти, французский социолог М. Хальбвакс, противопоставлявший подходы историков и мемуаристов (см.: Halbwachs 1950: 78–87).
2 С этой точки зрения, безусловно, заслуживает внимания статья Т. А. Ильиной (1973: 27–32), посвященная осмыслению опыта экспедиции преподавателей и студентов Калининского педагогического института и Калининского областного краеведческого музея в колхоз Молдино Удомельского района Тверской (тогда Калининской) области в 1965–1966 годах. В ходе этой экспедиции были записаны воспоминания местных жителей о революционных событиях 1905 и 1917 годов, Гражданской войне, коллективизации и Великой Отечественной войне. Это едва ли не единственная публикация в исторической литературе 1970-х – первой половины 1980-х годов, посвященная устным воспоминаниям как историческому источнику. Только с конца 1980-х годов на русском языке появляются первые публикации, посвященные «устной истории» (калька с английского термина oral history). При этом невозможно отрицать влияние западноевропейской и североамериканской историографии на развитие этого направления (см.: Виноградов, Рябов 1986: 6-16; Урсу 1989: 3-32; Писаревская, Ляшенко 1989; Никитина 1990: 210–216; Рожанский 1990:141–150; Коляда 1990: 25–30; Хубова 1997)/
3 Так, в одном из новейших учебных пособий по социальным исследованиям ему дано следующее определение: «Устная история – это фактуально точное воссоздание определенных исторических событий. В ее фокусе не субъективный опыт деятеля, а историческое знание о событиях, процессах, движущих силах и причинах. Устные истории, рассказанные участниками событий, используются для накопления такого исторического и фактического материала» (Девятко 2003: 69).