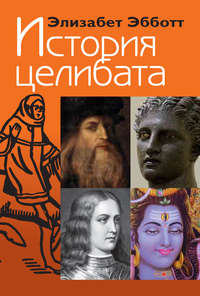Полная версия
История куртизанок
Однако далеко ей убежать не удалось. Чан Сам нашел ее в закусочной и напомнил о ее обязанностях наложницы. Мэй-Йин вернулась домой. Но теперь ее уже не устраивало положение наложницы, которое почти ничего не давало ей, но требовало от нее немало, и скоро она стала выпивать и играть в азартные игры с посетителями закусочной, которые относились к ней с большой симпатией. Стремясь отдохнуть от неустанного надзора и постоянных нравоучений Чан Сама, Мэй-Йин уговаривала его съездить в Китай, где он мог бы зачать сына, рождения которого хотела вся семья. Он согласился, и она заплатила за его билет, одолжив деньги в счет будущей зарплаты.
Вернувшись в свое селение, Чан Сам с Хуанбо принялись строить новый дом на деньги, которые им высылала Мэй-Йин, нередко удовлетворяя их постоянные запросы за счет того, что брала в долг у хозяина закусочной и на комиссионной основе продавала лотерейные билеты. Чан Сам и Хуанбо ее за это не благодарили – ничего другого они от нее и не ждали.
Однако Мэй-Йин не собиралась жертвовать собой, тем более что нудный Чан Сам спокойно жил себе в Китае. Она стала занимать больше денег, лучше одеваться, продолжала играть, а время от времени ненадолго уезжала отдохнуть и расслабиться в Викторию, столицу Британской Колумбии.
Мэй-Йин все больше и больше втягивалась в азартные игры и через некоторое время серьезно к ним пристрастилась: она уже не могла удержаться от того, чтобы играть на будущую зарплату, нередко ее проигрывая. В конце концов ее долг стал слишком большим, и в обмен на него или просто за деньги она начала оказывать посетителям закусочной услуги сексуального характера.
Но это было еще не самым плохим. В 1937 г. Чан Сам решил вернуться в Канаду, оставив Хуанбо, Пин, Нан и своего недавно родившегося сына Юэня в Китае. Когда мальчик появился на свет, семья не столько радовалась этому, сколько печалилась, потому что у долгожданного ребенка были сильно деформированы ноги: при взгляде на Юэня создавалось впечатление, что сам он хочет двигаться вперед, а ноги собираются нести его в обратном направлении. (Жившей в Канаде Мэй-Йин так хотелось иметь сына, что она пыталась превратить в мальчика Инь, собственную дочь: девочка ходила в штанах с коротко остриженными волосами.)
Несмотря на проблемы с деньгами, пристрастие к игре и необходимость зарабатывать, оказывая сексуальные услуги, Мэй-Йин была очень рада той личной свободе, которую обрела во время длительного пребывания Чан Сама в Китае. Их новая встреча очень скоро привела к печальным последствиям. Он осуждал ее за то, что она часто проигрывала, курила, много пила и сорила деньгами, а также «все более настойчиво пытался оказывать на нее моральное давление».
Мэй-Йин ни в грош не ставила его скаредность (например, на обед Чан Сам брал себе миску риса, приправленную томатным соусом или вареньем), злилась на то, что он пытался ее воспитывать, на конфуцианские афоризмы, которые тот постоянно повторял, на стремление во всем ее контролировать.
Как-то раз Чан Сам застал Мэй-Йин в квартире другого мужчины. Она окончательно его бросила, взяла с собой Инь и переехала в Нанаймо, город на острове Ванкувер. Чан Сам воспринял известие об этом без особых эмоций, ведь «Мэй-Йин продолжала оставаться его наложницей; единственной разницей было то, что теперь они жили раздельно». Сердце его принадлежало Хуанбо, и потому измена Мэй-Йин никак не сказалась на его чувствах. Кроме того, он знал, что его наложница, как и раньше, будет посылать деньги в Китай для поддержания семьи.
Мэй-Йин продолжала работать официанткой и играть в азартные игры, но пила теперь столько, что ее постоянно выворачивало наизнанку. Злость и досаду на то, во что она превратила собственную жизнь, Мэй-Йин вымещала на Инь, систематически избивая девочку и всячески изводя ее другими способами. «Чтоб ты подохла!» – постоянно повторяла она в сердцах, обращаясь к дочери.
Через какое-то время Мэй-Йин познакомилась с мужчиной, к которому относилась с уважением. Чоу Гуен был неглупым человеком, кризис конца 1920-х – начала 1930-х годов обошел его стороной. Они с Мэй-Йин сошлись, их отношения продолжались многие годы. Гуен, жена и дети которого жили в Китае, не содержал Мэй-Йин, он педантично вел учет всех денег, которые ей одалживал. Но он помог любовнице получить то, что она больше всего хотела, – сына, который заботился бы о ней в старости. Китайские мальчики для усыновления были большой редкостью, они стоили в десять раз дороже девочек, и Мэй-Йин пришлось заплатить триста долларов за малыша Гок-Лена, которого позже стали называть Леонард.
Изменившиеся обстоятельства жизни Мэй-Йин – снизившаяся после Великой депрессии зарплата, двое детей, Гуен – усилили ее неприязнь к Чан Саму и стремление к независимости. Завидев Чан Сама на улице, она нарочито не обращала на него ни малейшего внимания, к тому же Мэй-Йин запретила Инь называть его баба[7], якобы потому, что «он не твой отец». Она перестала давать ему деньги, и теперь ему самому приходилось платить за обучение Инь в школе.
В 1939 г. Мэй-Йин переехала в Ванкувер, где жил Гуен, пристроила Гок-Лена в дом к престарелой супружеской паре и сняла комнату, где поселилась вместе с Инь. Гуен был ее любовником, но он поставил ей обязательное условие для сохранения их отношений: она должна была сама снимать себе жилье и оплачивать все свои расходы.
Чан Сам, тосковавший по Хуанбо и страдавший от унижения, которое причиняла ему дурная репутация Мэй-Йин в китайской общине, решил, что из чувства собственного достоинства ему следует «развестись» с ней. «Это я привез ее сюда из Китая. И по традиции [Чоу Гуен] должен попросить у меня разрешения вступить с ней в связь».
Мэй-Йин была вне себя от гнева. «У меня на пальце нет кольца», – парировала она. А у Чан Сама, в отличие от его наложницы, кольцо на пальце имелось, поскольку он был женат. Чан Сам захотел продать свою непокорную и строптивую наложницу. Он сказал Мэй-Йин, что за право обладать ею Чоу Гуен должен ему заплатить три тысячи долларов.
«Я не продаюсь!» – огрызнулась Мэй-Йин. Чоу Гуен никогда не заплатит ему и цента, и она сама будет решать, как распорядиться собственной жизнью. Решение ее свелось к тому, что она продолжала пить и играть, закладывая, а потом выкупая свои украшения, и третируя дочку, смертным грехом которой был ее презренный пол. При этом она продолжала любить Гуена.
Однажды Чан Сам принес Мэй-Йин страшную новость о смерти их дочери Нан. Мэй-Йин передала свои соболезнования Хуанбо и написала старшей дочери Пин: «Больше мне не пиши. У меня сердце разрывается от горя». После этого она навсегда прервала связь с китайской частью семьи, из-за которой много лет ей приходилось поддерживать связь с Чан Самом.
Жизнь Мэй-Йин теперь текла по заведенному распорядку. Она постоянно искала все более дешевое жилье, переезжая из одной комнаты в другую. Через некоторое время после переезда она брала к себе детей. Как-то раз она решила обосноваться на одном месте всерьез и даже купила кое-какую мебель, в частности небольшое подержанное кресло для Инь. Позже в их жизни вновь появился Чан Сам, но теперь уже в качестве случайного знакомого: время развеяло их с наложницей былую неприязнь.
Инь постоянно беспокоили долги матери и неустроенность ее жизни с Гуеном, с которым та продолжала встречаться. Мэй-Йин настолько дорожила отношениями с ним, что иногда оставляла дочь без присмотра, желая следовать за любовником в другие места, куда он уезжал. Но даже в этом случае поздней ночью ей всегда приходилось возвращаться в свою комнату. Где же в такой ситуации, спрашивала себя Инь, были гордость и достоинство матери? В конце концов, ради избавления своей маленькой семьи от постоянной бедности, Инь поступила в медицинское училище, чтобы выучиться на медсестру. Там ей, азиатке, пришлось столкнуться с постоянными насмешками, нападками и издевательствами. Каждый месяц она посылала Мэй-Йин чек на 105 долларов – свою зарплату. Та его обналичивала и отправляла дочери обратно пять долларов на расходы.
Когда Инь, теперь называвшая себя Винни, обручилась, Мэй-Йин потребовала за невесту выкуп в пятьсот долларов и заручилась обещанием дочери воспитывать Гок-Лена, который уже стал Леонардом, в обмен на ее родительское благословение. Выкуп за невесту она получила, но жених Винни наотрез отказался заботиться о Леонарде. Мэй-Йин пришлось с этим смириться, и она подарила дочери традиционный свадебный подарок: пуховое одеяло и две подушки, а в придачу к ним купленный в рассрочку комод из кедра.
Мэй-Йин продолжала пить, ссориться с людьми, перестала следить за собой, ухаживать за сыном, за домом, даже любимый Гуен заботил ее теперь гораздо меньше, чем раньше. Она связывалась с Винни лишь тогда, когда ее охватывало отчаяние. Гуен ее бросил, сказав, что не даст ей ни цента, даже если она будет умирать от голода.
Через какое-то время она переехала к Винни, но постоянная потребность Мэй-Йин в выпивке и деньгах на ее приобретение создавали в семье невероятное напряжение. Как-то раз она пожелала Винни смерти, и та с горечью ей ответила: «Ты едва не забила меня до смерти; почему ты раньше не привязала меня к телеграфному столбу и не запорола насмерть? Тогда мне не пришлось бы пережить столько горя, сколько выпало на мою долю!»
Когда Мэй-Йин отказалась выехать из дома, муж Винни перенес ее в свою машину и отвез в китайский квартал к Чан Саму. Заключив между собой перемирие, они с Чан Самом на время ополчились против Винни. Потом вновь стали жить порознь. Чан Сам умер в 1957 г. от рака.
Жизнь Мэй-Йин продолжала катиться по наклонной: она так же пила, жила в отвратительных условиях, иногда нанималась на сезонную работу по сбору фруктов и овощей. Время от времени они с Винни встречались, вплоть до 1967 г., когда Мэй-Йин погибла в автомобильной аварии.
В отчете следователя было написано, что на момент смерти рост Мэй-Йин составлял четыре фута и девять дюймов, а вес – без малого девяносто фунтов[8]. Наследство ее тоже оказалось ничтожным: 40 долларов и 94 цента, закладная на нефритовые безделушки, склянки с высушенными травами и кашемировый свитер, подаренный ей Винни. Не особенно опечаленный ее смертью Гуен дал на похороны пятьдесят долларов, но сам на траурную церемонию не явился. С рождения обреченную нуждой и полом на тяжелую жизнь, Мэй-Йин погребли неподалеку от Чан Сама – как и при жизни, она и после смерти была от него отделена.
НАЛОЖНИЦЫ В ЯПОНИИ6
В отличие от Китая, в древней аграрной Японии женщин ценили, хотя не до такой степени, чтобы предоставить им равные с мужчинами права. Богинь, входящих в пантеон анимистической синтоистской религии, там высоко чтили, и когда богиня солнца Аматэрасу-омиками, «великое божество, озаряющее небеса», послала с небес внука править Японией, была основана правящая императорская династия.
Японцы также поклонялись синтоистским богиням, которые не отказывали себе в удовольствиях и пускались в многочисленные любовные похождения7. Сладострастие этих богинь являлось божественным доказательством того, что физическая близость дана для радости и удовольствия и женщины могут вступать в сексуальные отношения и наслаждаться так же, как и мужчины. В результате во времена господства синтоизма в Японии женщины наравне с мужчинами без особых проблем могли выражать свои сексуальные предпочтения и пристрастия. Лишь в среде самураев, военно-феодального дворянского сословия, бытовали ограничения сексуального характера. Даже в наши дни в основе национальной культуры лежит почтительное отношение японцев к сексуальным отношениям.
Культура Японии раннего периода, благоволившая к женщинам, положительно воспринимала женщин-правительниц. От древних легендарных времен, когда еще не существовало письменных документов, до XII в. женщины пользовались авторитетом и занимали должности, обеспечивавшие им немалую власть. Период с 522 по 784 г., например, остался в памяти народа, потому что правительницы оказывались у власти так же часто, как правители. По иронии судьбы, как раз в это время некоторые исключительно влиятельные женщины стали насаждать в Японии чужеродные верования, которые позже оказали глубокое влияние на синтоизм, а порой даже подменяли его положения. Императрица Суйко (годы правления: 593–628) преуспела в распространении корейского варианта буддизма, появившегося в Японии не менее чем за пятьдесят лет до начала ее правления, и покровительствовала буддийскому искусству. Две другие известные императрицы – Комио (годы правления: 729–749) и ее дочь и преемница Кокэн (годы правления: 749–758) – также получили известность как ревностные проповедницы буддизма.
Со временем японское общество усвоило присущее буддизму пренебрежительное отношение к женщине. Укоренились новые, двойные стандарты поведения. Права женщин стали нарушаться во всех областях жизни. Императрица Дзито (годы правления: 687–697) курировала составление японского законодательства при создании кодекса Тайхо, изданного в 701 г. Задачей кодекса, включавшего 30 разделов, являлось, в частности, оформление и уточнение налоговой и надельной систем. Согласно 9-му разделу, в котором определялись размеры подушного надела, свободная женщина могла получить лишь две трети нормы, полагавшейся мужчине. В XV в. кланы землевладельцев разработали «домашние законы», установившие правила, которые узаконивали подчиненное в юридическом и социальном плане положение женщин. Другие законодательные и социальные акты требовали от невест до вступления в брак хранить девственность, в то время как женихам полагалось обладать опытом сексуальных отношений.
В популярном пособии XVII в., посвященном роли женщины, отмечалось, что девушкам следует быть добродетельными, целомудренными, покорными и спокойными. Женщине вменялось в обязанность «смотреть на супруга своего как на повелителя», ей «надлежало служить ему с почтением и уважительностью, воспринимая его серьезно и без презрительности»8.
Однако женщинам, выданным замуж по воле родителей, не предписывалось ни любить своих мужей, ни преклоняться перед ними. Спустя столетия для брака в Японии все еще характерен прагматический подход, что делает внебрачные связи более соблазнительными, чем в обществах, традиции которых требуют от супругов взаимной любви.
Покорным, но не чувствующим к мужьям особой привязанности женам из процветающих семейств нередко приходилось делить свои дома или, по крайней мере, мужей с одной или несколькими наложницами. К XVII в. модель сожительства, распространенная среди буддистов в Китае и Корее, уже в значительной степени прижилась и в Японии, причем ее участники следовали детально разработанным правилам.
Очень часто между женами и наложницами не существовало никаких противоречий. Сожительство было широко распространенным явлением, и многие девочки – будущие жены – вырастали в домах, где жили наложницы. Нередко они сами были дочерями наложниц. И жены, и наложницы отлично знали правила игры и прекрасно сознавали, какие последствия их ждут за неисполнение этих правил.
Положение наложниц соответствовало статусу слуг, и они никогда не могли достичь положения жены. Даже если наложниц хотели взять в жены вдовцы или холостяки, им запрещалось это делать. Если наложницу поселяли в доме хозяина, она была обязана повиноваться его жене, никогда не посягая на занимаемое ею положение. Теоретически жены должны были предварительно одобрять выбор мужьями наложниц. Женщины с достаточно сильным характером, чтобы осуществлять это право на деле, жили с наложницами в согласии. Что касается более слабых женщин, то, несмотря на гарантии супружеского статуса, они могли погрязнуть в нескончаемых междоусобных дрязгах с волевыми наложницами, которые имели о себе слишком высокое мнение.
Обзаводившиеся наложницами мужчины руководствовались при этом самыми разными соображениями: ими двигали соображения престижа, или сексуальное влечение, или романтическая любовь, но главное, они стремились получить наследника в том случае, когда жена не могла зачать ребенка. Бесплодие женщины давало ее мужу юридическое право на развод, но от такой крайней меры ее могла спасти наложница супруга, которая была в состоянии выполнить эту обязанность за нее. По этой причине многие жены испытывали радость, если в их доме появлялись способные к деторождению молодые наложницы.
Одно из наиболее распространенных названий наложницы – мекаке – означает «заимствованная утроба». Сын мекаке, зачатый от хозяина, не считался ее сыном. Жена его отца растила мальчика как собственного ребенка, а отец признавал его наследником. Его родная мать оставалась в семье на правах служанки, причем в этом же качестве она прислуживала и собственному сыну. Впервые рожденного ею ребенка мекаке видела на тринадцатый день после его появления на свет, когда вместе с другими слугами наносила официальный визит хозяевам, чтобы принести дань глубокого уважения маленькому господину, своему будущему хозяину.
Многие отцы семейств заводили для себя наложниц исключительно по эротическим причинам. Мужчина мог даже влюбиться в красивую молодую женщину и содержать ее в отдельном жилище, чтобы жена не докучала ей своими требованиями и не возникало соперничества с другими наложницами, которые прежде пользовались его благосклонностью. Если жена обвиняла его в том, что к наложнице он относится лучше, чем к ней, в дело могла вмешаться ее семья и потребовать возвращения приданого. Раздельное проживание потенциальных соперниц имело к тому же немалый экономический смысл. Однако в большинстве семей хозяин считал, что правила сожительства являются достаточной гарантией для мирного сосуществования, которое будет благоприятно сказываться на его авторитете и сделает его жизнь спокойной и удобной.
Дама Нидзё9
Как и во многих подобных случаях, большинство японских наложниц жили и умирали, не оставляя после себя никаких документальных свидетельств. Но одна исключительная женщина составила подробные записи с описаниями впечатлений, которые ей довелось пережить в качестве наложницы при японском императорском дворе. Дама Нидзё не выступает от имени миллионов своих менее удачливых сестер, но когда читаешь повествование о ее жизни «Признания дамы Нидзё», захватывает дух, потому что она была так наблюдательна, откровенна и вместе с тем настолько поглощена собственными чувствами, что в ее автобиографию были ненамеренно внесены сатирические нотки.
В XIII в., когда ей было четыре года, маленькая Нидзё попала ко двору «прежнего» императора Го-Фукакусы сразу после смерти своей несовершеннолетней матери Дайнагонноскэ. Го-Фукакуса – болезненный и застенчивый молодой человек с деформированным бедром – значительно уступал как правитель своему привлекательному и уверенному в себе младшему брату Камэяме, но какое-то время ему очень нравилась Дайнагонноскэ. Часть неразделенной любви к ней он перенес на ее шаловливую, симпатичную маленькую дочку, ив 1271 г. Го-Фукакуса с согласия отца взял девочку себе в наложницы. Тогда Нидзё было лет двенадцать-тринадцать, она как раз достигла того возраста, в котором девочки вступали в мир взрослых, выходили замуж или становились наложницами. Го-Фукакуса был старше ее на тринадцать лет.
Нидзё не особенно печалилась по поводу кончины матери и не очень переживала из-за того, что в одночасье кончилось ее детство. В то время девушку больше всего волновали наряды – как окружавших ее людей, так и собственные. В остальном, если не считать этого наваждения, она была девушкой культурной, начитанной, занималась музыкой, рисованием и всерьез гордилась своими стихами (по большей части весьма посредственными).
В качестве наложницы Го-Фукакусы Нидзё проявила себя как искушенная представительница постоянно интриговавших и соперничавших друг с другом придворных, где изрядно злоупотребляли саке, непрестанно занимались любовью, а также музыкой и стихосложением. Она была очень живой и одаренной молодой женщиной. Вскоре у нее родился сын, которого Го-Фукакуса признал официально, хоть ему было известно, что его наложница имеет много других любовников. Он даже как-то убедил ее совратить верховного жреца Ариаке, несмотря на то (а может быть, именно потому) что тот дал обет безбрачия.
Вместе с тем молодая наложница допустила несколько промахов, которые омрачали ее успехи. После кончины отца, который оставил молодую женщину без покровителя и наставника, Го-Фукакуса не торопился сделать ее официальной наложницей.
Дама Нидзё также переоценила свою неотразимость. Поскольку Го-Фукакуса терпимо относился к ее кратковременным любовным связям с другими мужчинами, она опрометчиво попыталась выдать его за отца троих детей, которых зачала от других мужчин. (Один из любовников совратил ее «словами, [которые] вызвали бы слезы даже у корейского тигра», с нежностью вспоминала она.) Вместе с тем дама Нидзё явно не проявляла интереса к Го-Фукакусе. Этого не могла изменить ни смерть их младенца-сына, ни высокомерие, вызвавшее неприязненное отношение к ней со стороны императрицы Хигаси, жены Го-Фукакусы. Даже поглощенная собой, дама Нидзё обратила внимание на то, что супруга императора не испытывала к ней того дружелюбия, которое было ей свойственно раньше.
И последним просчетом дамы Нидзё стало ее романтическое увлечение Камэямой – младшим братом Го-Фукакусы, которому император сильно завидовал. Через двенадцать лет Го-Фукакуса внезапно прогнал свою наложницу. Во время их последней мучительной встречи на даме Нидзё была изящная накидка из блестящего шелка с красным капюшоном, а на кимоно выделялись вышитые синей шелковой нитью изображения корня маранты и кортадерии. Расставшись с ней, Го-Фукакуса вышел из помещения, пробурчав себе под нос: «Как же я ненавижу корень маранты!»
Через некоторое время дама Нидзё смирилась с утратой привязанности и уважения императора. «Как он мог быть таким бесчувственным?» – спрашивала она себя. Несмотря на то что она долго была (неверной) наложницей, Го-Фукакуса отказал ей в материальной поддержке. Даме Нидзё едва удалось избежать нищеты: чтобы заработать на жизнь, ей приходилось выступать со своими стихами, давать советы относительно внутреннего убранства жилищ – в общем, добывать средства к существованию любыми доступными способами. В это же время она стала буддийской монахиней, правда не совсем обычной, так как много путешествовала и встречалась с самыми разными людьми.
После семи лет странствий во время посещения одного святилища дама Нидзё неожиданно встретила Го-Фукакусу. (Он тоже совершал паломничество к святым местам.) На ней было изношенное монашеское одеяние – пыльное, обтрепанное и неопрятное, а сопровождал ее в странствиях горбатый карлик. Но Го-Фукакуса, тем не менее, ее узнал, и они провели всю ночь в ностальгических воспоминаниях. «Теперь любовь уже не имеет такого очарования, как в былые времена», – вздохнул он. Так, по крайней мере, писала дама Нидзё о его чувствах.
Несмотря на обычный финал своей жизненной истории, дама Нидзё, никогда не страдавшая избытком скромности, решила, что было бы интересно ее записать. Она оказалась права. Ее воспоминания стали одним из редких свидетельств любовных связей наложницы, ее мыслей и восприятия событий, а также обстановки при японском императорском дворе XIII в., где ей довелось прожить немало лет, и реалий повседневной борьбы за выживание среди простых японцев.
В воспоминаниях дамы Нидзё нашли отражение половая распущенность японской аристократии, откровенный прагматизм вельмож, их социальный снобизм и мудреные придворные ритуалы. Она разделяла распространенные тогда взгляды на любовь как на интимную игру, в которой имели значение романтика и поэзия, но никак не верность партнеру. И при дворе императора, и в доме преуспевающего торговца наложницы не имели той защиты, какой отличалось положение жен, – зато им часто была доступна эмоционально бурная и эротически разнообразная любовь. Что касается любви материнской, дама Нидзё была типичной придворной матерью-наложницей, жизнь ее проходила вдали от детей, за которыми следил отец и которых воспитывали слуги.
Но дама Нидзё была исключением в других отношениях, а именно в том, что оставила пространные воспоминания о своей жизни и проявила удивительную стойкость в борьбе с превратностями судьбы. Как ни странно, она сменила положение наложницы на тяжкую участь бродяжки-попрошайки без всякой жалости к самой себе, не впав при этом в отчаяние. Несомненно, в этом проявилась ее замечательная способность к преодолению жизненных невзгод. А может быть, дама Нидзё почувствовала облегчение от того, что в конце концов ей удалось избавиться от ограничений и неестественности положения придворной наложницы и перестать делать вид, что она любит непривлекательного, в чем-то даже отталкивающего Го-Фукакусу.
ГЕЙШИ
Отражением двойных стандартов в Японии служил не только институт наложниц и соответствовавшая ему структура семьи. Как и во многих других обществах, этот двойной стандарт распространялся и на широко практиковавшуюся проституцию. Проститутками в основном становились девушки из бедных семей: родители продавали их для занятия этой профессией. В период сёгуната Камакура (N85-1333 гг.) началось осуществление надзора за проститутками, а в годы правления сёгунов Асикага (1338–1573 гг.) была образована специальная служба, ведавшая налогообложением проституток. В эпоху сёгуната Токугава (XVII–XIX вв.) в этом направлении были сделаны следующие шаги, в ходе которых в Японии возникли широко известные кварталы удовольствий – лицензированные, чем-то напоминавшие зоопарки гетто для проституток, которые потрясали – и вместе с тем позже возбуждали – толпы зарубежных визитеров.