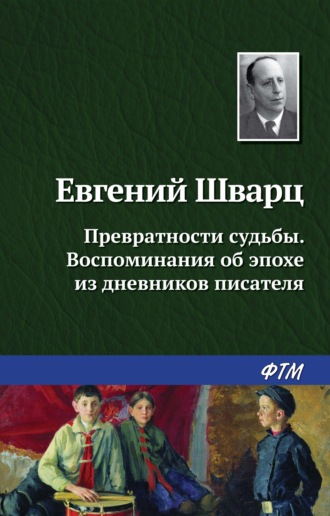
Полная версия
Превратности судьбы. Воспоминания об эпохе из дневников писателя
1 марта
В ночь на сегодня позвонил Фрэз и сообщил, что у него приятные и неприятные новости. Приятные – сценарий очень хвалили на худсовете министерства. Решили считать его важнейшей картиной «Союздетфильма». Неприятные: в силу этого Фрэза, которому сценарий обязан своим существованием (без него я не стал бы возиться с этой труднейшей темой), хотят снять и назначить другого режиссера. Я дал протестующую телеграмму в министерство и «Союздетфильм». После разговора с Фрэзом долго не мог уснуть.
19 марта
Ночью разговаривал с Фрэзом по телефону. Его окончательно назначили режиссером «Первоклассницы».
20–22 марта
А в пятницу я пошел, как обещал, на просмотр к Акимову. Сталинский комитет встречали на лестнице все назначенные для этой цели артистки и артисты – и я, по обещанию. И вот они пришли: рослый Хорава с лысеющей бритой головой, с несколько африканским своим лицом; Гольденвейзер, беленький, точнее – серебряный, сильно одряхлевший, с кроткой безразличностью выражения; Михоэлс с далеко оттопыренной нижней губой, глазами усталыми и вместе дикими, с пышной шевелюрой вокруг лысины. Вежливейший, глубоко вывихнутый Евгений Кузнецов[43], Храпченко[44] – большой, широколицый, с зелеными кругами под глазами, с острым носом. Эрмлер[45]. Мы проводили их в комнату директора. Бениаминов[46] пытался помочь Храпченко снять пальто. Он отнекивался. Я сказал: «Не дают человеку выдвинуться». Храпченко засмеялся. Я почувствовал себя польщенным и рассердился на себя за это только вечером. Потом все пошли смотреть «Старые друзья». Спектакль необычайно вырос после премьеры. Я был доволен, что пошел. Забыл отвратительное чувство неловкости, которое так страшно мучает меня среди малознакомых, очень знаменитых современников. В антракте гостей принимали в кабинете Акимова, где он устроил выставку портретов. Рядом, в комнате секретаря, угощали гостей бутербродами, пирожными, чаем, пивом, лимонадом. От спектакля они были в восторге. Вечером пришел Миша Слонимский. У него неладно с пьесой – Александринка не берет. Я взял пьесу. Утром в субботу ездил на фабрику. Смотрел сцену леса[47]. Понравилась.
23–26 апреля
В среду произошло неожиданное событие. Я получил из Берлина письмо о том, что «Тень» прошла в Театре имени Рейнгардта, точнее, в филиале этого театра, Kammerspiele[48], с успехом, «самым большим за много лет», – как сказано в рецензии. «Актеров вызывали к рампе сорок четыре раза». Я, несколько ошеломленный этими новостями, не знал, как на это реагировать. Пьеса написана давно. В 39-м году. Я не очень, как и все, впрочем, люблю, когда хвалят за старые работы. Но потом я несколько оживился. Все-таки успех, да еще у публики, настроенной враждебно, вещь скорее приятная… Пятница началась интересно. Телеграмма из Москвы. Кошеверова и Погожева[49] сообщают, что худсовет министерства принял «Золушку» на отлично. Что особенно отмечена моя работа. Поздравляют. Едва я успел это оценить – телефон: Москвин[50] поздравляет – ему Кошеверова звонила из Москвы. Едва повесил трубку – Эрмлер звонит. Тоже поздравляет. Потом начались звонки со студии. Я принимал все поздравления с тем самым ошеломленным, растерянным ощущением, с каким встречаю успех. Брань зато воспринимаю свежо, остро и отчетливо. «Золушка», очевидно, для тех, кто не знает литературный сценарий, приемлема. Ну вот. Надо ли говорить, что это еще больше выбило меня из колеи. Взбудоражило. Суббота принесла новые сенсации. Васильев[51] телеграфировал Глотову[52], что поздравляет его и весь коллектив. Что «Золушка» – победа «Ленфильма» и всей советской кинематографии. Глотов приказал эту телеграмму переписать на плакат и выставить в коридоре студии.
27–28 апреля
Чудеса с «Золушкой» продолжаются. Неожиданно в воскресенье приехали из Москвы оператор Шапиро и директор. Приехали с приказанием – срочно, в самом срочном порядке, приготовить экземпляр фильма для печати, исправив дефектные куски негатива. Приказано выпустить картину на экран ко Дню Победы. Шапиро рассказывает, что министр смотрел картину в среду. Когда зажегся свет, он сказал: «Ну что ж, товарищи: скучновато и космополитично». Наши, естественно, упали духом. В четверг смотрел «Золушку» худсовет министерства. Первым на обсуждении взял слово Дикий. Наши замерли от ужаса. Дикий имеет репутацию судьи свирепого и неукротимого ругателя. К их великому удивлению, он стал хвалить. Да еще как! За ним слово взял Берсенев. Потом Чирков. Похвалы продолжались. Чирков сказал: «Мы не умеем хвалить длинно. Мы умеем ругаться длинно. Поэтому я буду краток…» Выступавший после него Пудовкин сказал: «А я, не в пример Чиркову, буду говорить длинно». Наши опять было задрожали. Но Пудовкин объяснил, что он попытается длинно хвалить. Потом хвалил Соболев. Словом, короче говоря, все члены совета хвалили картину так, что министр в заключительном слове отметил, что это первое в истории заседание худсовета без единого отрицательного отзыва. В пятницу в главке по поручению министра режиссерам предложили тем не менее внести в картину кое-какие поправки, а в субботу утром вдруг дано было вышезаписанное распоряжение: немедленно, срочно, без всяких поправок (кроме технических) готовить экземпляр к печати. В понедельник зашел Юра Герман. К этому времени на фабрике уже ходили слухи, что «Золушку» смотрел кто-то из Политбюро. Юра был в возбужденном состоянии по этому поводу…
3–5 мая
Сперанский – артист театра Образцова. Небольшой, черненький, узкоглазый, скромный. Виски уже поседели. Вокруг Образцова собрались люди, единственные в своем роде. Они так любят дело, так впечатлительны и уязвимы, что любят делать его так, чтобы их не видели. Все они – настоящие художники, а Сперанский – первый из них. Я давно уважал его за игру в «Аладдине» и в «Короле Олене». В этой последней пьесе роль свою он написал сам (он играет Труффальдино). Написал отлично. Ко мне он пришел познакомиться и прочесть свою пьесу «Краса ненаглядная». Пьеса отличная. Нет ни признака стилизации. Пьеса насквозь русская – не по одному языку. Язык здесь служит, а не лежит, как макеты в выставочной витрине. Он служит, действует, а именно в действии и чувствуешь и понимаешь, что он драгоценный, живой. Прелестно начало, когда царица говорит царю, что царевича женить пора. Он стал грубить и дверями хлопать. Разбойники, баба-яга, девка-чернавка, Кощей, а пьеса трогает за живое именно прелестнейшей жизненностью. И при этом она легка. Так аппетитно легка, что мне захотелось написать что-нибудь соответствующее. Настоящий признак того, что тебя коснулось настоящее искусство. Пока шло чтение, подошли Зарубина[53] и Чокой[54]. Сели ужинать. Пили. Настроение было прелестное – все из-за пьесы.
Часа в четыре звонок. Пришел Суханов[55]. Из дальнейших разговоров выяснилось, что он выпил литр бессарабского вина, что было совершенно незаметно. Этот блондин с маленькими светлыми глазами – явление любопытное. Строгий пес, конь-людоед, кошка с характером обычно имеют невеселое и нелегкое прошлое. Суханов ближе всего к кошке с характером. Не предсказать – когда укусит, когда приласкается. Очень талантлив. Как многие талантливые люди – ненавидит хвалить, когда все хвалят, и любит заступаться, когда все ругают. Это последнее, впрочем, случается с ним значительно реже.
8–12 мая
Дом кино устроил из просмотра «Золушки» в некотором роде праздник. В вестибюле – гипсовые фигуры выше человеческого роста. Какие-то манекены в средневековых одеждах. В фойе выставка костюмов на деревянных безголовых манекенах же. (Внизу они с головами и руками.) На стенах фойе – карикатуры на всех участников фильма. На площадках – фото. Но праздничней всего публика, уже посмотревшая первый сеанс. Они хвалят картину, а главное – сценарий, так искренне, что я чувствую себя именинником, даже через обычную мою в подобных случаях ошеломленность. Звонок. Идем в зрительный зал. На занавесе, закрывающем экран, нашиты буквы: «Золушка». Трауберг идет говорить вступительное слово. Его широкая физиономия столь мрачна, что я жду, что он, как всегда, будет нас бранить за нехорошее поведение. (Так он делает всегда по средам, перед просмотрами иностранных картин. То мы членские взносы не платим, то не по тем пропускам ходим, то не так сидим.) На этот раз он милостив. Хвалит картину, в особенности сценарий, и представляет публике виновников торжества. Нам аплодируют. Но и тут он проявляет характер. Не называет и не представляет публике Акимова, сидящего в зале, хотя декорации его были отмечены в решении худсовета. Ругает он на этот раз только дирекцию студии за то, что она хороший экземпляр послала в Москву, а плохой показывает в Доме кино. Начинается просмотр. Смотрю на этот раз с интересом. Реакции зала меня заражают. После конца – длительно и шумно аплодируют. Перерыв. Обсуждение. Хвалят и хвалят…
Иду на вернисаж выставки Акимова в Союз художников. Торжественное заседание перед выставкой. Говорят речи Серов[56], Морщихин[57], художник Рыков[58]. Затем публику приглашают в выставочные залы. Впечатление от выставки солидное – два больших зала и хоры заняты работами Акимова. Портреты, эскизы постановок, макеты. (Два моих портрета – 39 и 43 года. На первом – я толст. На втором – тощ.) Театральные работники хвалят. Художники выставку поругивают.
15–22 мая
В понедельник звонит утром Бартошевич, напоминает, что я обещал выступить на обсуждении выставки Акимова. Обещаю. Вечером выхожу. Дом художников, где когда-то было Общество поощрения искусств и где учился когда-то лучший мой друг, пропавший без вести Юрий Соколов. Малый выставочный зал полон. Собрание открывает молодой и толстый Серов. Бартошевич делает доклад, мямлит, тянет. Основной прием очень опасный. Он излагает доводы противников Акимова, а потом крайне вяло их опровергает. «Утверждают, ссылаясь на то-то и то-то, что Акимов – формалист. По-моему, это не верно. Говорят, что он сух, рассудочен и однообразен, ссылаясь на такие-то и такие-то его работы. С моей точки зрения, это не так». В зале начинают уже посмеиваться. Как всегда, после речи докладчика никто не хочет выступать первым. Из президиума подходит ко мне художница Юнович[59]. Уговаривает выступить меня. Я отказываюсь. Наконец соглашается выступить Цимбал. Потом говорит Левитин[60]… Говорит храбро. Хвалит безоговорочно… Затем, наконец, приходится говорить мне. Говорю о смежности и раздельности искусств. Удивляюсь тому, что в литературе, когда хотят похвалить, пользуются терминами других искусств. О слове говорят: «Музыкально. Живописно». Художники же говорят: «Литературно», – когда хотят выругать. Признаю, что это явление здоровое. Каждое искусство должно обходиться своими средствами. Я сам не люблю, скажем, программной музыки – но не слишком ли дифференцировались искусства? Почему не только передвижники, но и «Мир искусства» шли в ногу со всеми передовыми отрядами литературы, музыки, философии своего времени, почему их выставки были переполнены зрителями? Почему и сейчас полно в Филармонии? Говорю об Акимове как о художнике, в котором, независимо от того, что он делает, внимательный человек узнает человека с переднего края, боевого художника, деятеля искусств. Это пограничник, не охраняющий границы, а вторгающийся на чужие территории. Как настоящий боец, он и смел и разумен. Бывают у него и победы и поражения. Ну вот и все в общих чертах. Затем выходит художник Павлов[61] с лицом злодея, высокий, бледный, черные усы, приказчичий нос. Яростно громит Акимова за его портреты. Он не видит здесь борьбы за социалистический реализм. Его поддерживает маленький человечек, фамилии которого я не расслышал, преподаватель Академии. Юнович Акимова защищает. Серов говорит заключительное слово очень толково и очень доказательно. Хваля вежливо Акимова, обвиняет его как раз в недостаточности формализма. Нельзя бороться с фотографией, увеличивая или уменьшая на сантиметр нос, вытягивая шею натуры. Надо найти форму для таких опытов.
29–30 августа
Позвонили из Союза, что в пять часов в готической гостиной встреча с Эльзой Триоле и Арагоном[62]. Пошел в Союз. Там Прокофьев, Браусевич[63], Берггольц, Рест, Черненко[64], Капица[65], Зоя Никитина[66]. В начале шестого приезжают гости. Эльза Триоле – маленькая, с мужским выражением лица, прическа с огромной искусственной косой надо лбом, светлые, неестественно блестящие глаза, вуаль на лице, подбородок и шея очень пожилой женщины. Арагон – высокий, узкоплечий, седой, лицо моложавое, тонкое, правильное. Что-то мальчишеское в выражении. Лиля Брик черноглазая, энергичная. Ее муж. Идем в гостиную. Я сижу рядом с Лилей Брик. Она рассказывает об Арагоне и Триоле. Оба необыкновенно трудоспособны. Работают целыми днями и не понимают, как можно ничего не делать хоть несколько часов подряд. Оба необыкновенно смелы. (У Арагона в петлице ленточки пяти высших французских военных орденов.)
28–30 сентября
«Первоклассница» снимается в Ялте, и, по слухам, получается отлично. Пьеса, написанная для Шапиро, тоже в работе, хотя ответа из Москвы он еще не получил. (Из Реперткома). В театре Деммени заново поставили «Сказку о потерянном времени». С периферии приходят письма (адресованные, правда, не мне, а актерам), из которых ясно, что картина «Золушка» понята именно так, как мне хотелось. А самое главное, я пишу новый сценарий и многое в нем пока как будто выходит. Сценарий о двух молодых людях, которые только что поженились, и вот проходит первый год их жизни с первыми ссорами и так далее и тому подобное.
1948 г
21 апреля
Приезжали немецкие писатели[67]. Бернгард Келлерман очень, очень старый. Я в детстве любил «Туннель» и ощущал эту книгу как некое жизненное явление, без автора, без начала, – как чудо; словом, так, как ощущается книга в детстве. И расстроился, увидев дряхлого, земного автора, как удивлялся и расстраивался много раз. И, вообще, что-то он мне не показался. Остальные немцы ничего себе, тем более что никого из них я не читал раньше. Еще что? Читал в Комедии два акта «Медведя». Впрочем, об этом я уже писал. Пробую пьесу кончить. Моя собственная неуверенность мешает мне направить ее по той или другой дороге. Что еще? Попробую писать детскую пьесу. Попроще сюжетом и побогаче.
29 августа
Необходимо решить, что я буду писать дальше. Вот и буду размышлять вслух, чтобы заодно научиться печатать на машинке.
Прежде всего мне надоела моя сказочная манера писать. Все это искусство не слишком точное. Это мне особенно заметно, когда я читаю сказки моих коллег. И не все туда уложишь. В сказку-то.
Тем не менее надо подумать именно о сказке для МТЮЗа. У меня договор с ними. Театр этот со мною всегда был трогательно внимателен и мил.
О чем же сочинить сказку? Приятнее всего мне сказка трогательная. Точнее, сейчас мне хочется сделать именно такую сказку. Трогательнее всего, пожалуй, история о братце и сестрице, об Аленушке и Иванушке. Но боюсь, что это выйдет похоже на «Снежную королеву».
17 сентября
Не видишь человека дня два, потом увидишь, и он спросит: «Что нового?» Столько за эти два дня передумано, столько перечувствовано. «Что нового? – отвечаешь. – Да ничего…»
4 октября
При бесконечных разговорах о влиянии, которые так любят литературоведы, кроме многих других вещей, они не учитывают одного обстоятельства. Я полушутя изложил его в стихах следующим образом:
На душе моей темно,Братцы, что ж это такое?Я писать люблю одно,А читать люблю другое!И в самом деле. Я люблю Чехова. Мало сказать люблю – я не верю, что люди, которые его не любят, настоящие люди. Когда при мне восхищаются Чеховым, я испытываю такое удовольствие, будто речь идет о близком, лично мне близком человеке. И в этой любви не последнюю роль играет сознание, что писать так, как Чехов, его манерой, для меня немыслимо. Его дар органичен, естественно, только ему. А у меня он вызывает ощущение чуда. Как он мог так писать?
А романтики, сказочники и прочие им подобные не вызывают у меня ощущения чуда. Мне кажется, что так писать легко. Я сам так пишу. Пишу с наслаждением, совсем не похожим на то, с которым читаю сочинения, подобные моим. Точнее, родственные моим.
1950 г
30 июня
Я помню себя лет с двух. Во всяком случае, я помню отчетливо, что стою во дворе, возле красной кирпичной стены. Кто-то спрашивает: «Сколько тебе лет?» И я отвечаю: «Два года». Помню железный флюгер в виде петуха за окном нашей комнаты в Казани. Полукруглые ступени, ведущие в университетскую клинику. Каюту. Палубу пассажирского парохода и маленький буксирный колесный пароход, бегущий у высокого зеленого берега. Мы много переезжали, – вероятно, поэтому я помню себя столь маленьким.
1 июля
Да, мы часто переезжали, когда я был маленький. Помню поезда. Помню огромные залы, буфетные залы, где ждали мы пересадки. Тоненькие макароны, которые я почему-то считал свойственными только вокзалам и которые иногда с соответствующей мясной подливкой и теперь напоминают мне детское ощущение дороги, праздника. Поездки всегда были для меня праздником.
25 июля
Что я еще помню из самого раннего детства? Квартиру в Екатеринодаре. То во дворе, в красном кирпичном домике, то комнату, которую мы у кого-то снимали, очевидно. Во всяком случае, хозяйские девочки показывали мне «Ниву» в переплете, где сильное впечатление на меня произвела картинка «Голодающие индусы». Это были, как я теперь понимаю, разновременные наезды в родной город отца в промежутки между разными его службами до Майкопа. Помню, как в Дмитрове меня разбудила мама и сказала: «Не пугайся, мы поедем кататься». Это, очевидно, 98 или 99 год, когда отца арестовали и увезли в Казань, а мы отправились за ним.[68] Помню свидание в тюрьме. Отец и мать сидят за столом друг против друга, а между ними жандарм, положив сложенные руки на стол. «Не шуми! – говорит мать. – Полицейский заберет». – «А вон полицейский», – говорю я, указывая на жандарма, и все смеются. Больше ничего не помню, хотя по рассказам знаю, что на этом же свидании жандарму показалось, что, целуя на прощанье мать, отец передал ей записку; жандарм схватил мать за лицо: «Откройте рот!» Отец бросился на жандарма. И я все забыл.
27 июля
Черкасов рассказывает об Эйзенштейне: «Он боялся умереть – мексиканская гадалка предсказала ему смерть в пятьдесят лет. Когда в Доме кино хотели отпраздновать его пятидесятилетний юбилей, он сказал: „Тсс, тсс, отложим на месяц“, – и умер через две недели. Он всегда был в маске. Он меня очень любил, но откровенен со мною не был. На съемках шутил, чтобы повысить настроение. В ужасных условиях снимали мы „Грозного“. Эйзенштейн глядит в аппарат: «А ну, царюга, пять шагов вперед. Так. Полшага вправо. Шаг влево». И вдруг что-то ледяное падает мне за шиворот. Это, оказывается, Эйзенштейн нарочно подвел меня к сосульке, с которой капало. Он был суеверен – ничего не начинал в понедельник или пятницу. Как его любили в группе!»
28 июля
Историю с поросенком на пасхальном столе помню едва-едва, и то, вероятно, потому, что мать рассказывала мне ее неоднократно. Это был первый пасхальный стол, устраивавшийся у нас дома, – значит, отец уже служил твердо. В Ахтырях? Не спросил в свое время. Я утром, радостный, в новой рубахе и сапогах, вбежал в столовую. И вдруг родители услыхали отчаянный плач и крики: «Хвостик, хвостик». Мать поспешила ко мне и увидела, что я показываю на поросенка, лежащего на блюде, и все повторяю, обливаясь слезами: «Хвостик». Этим я пытался (как я смутно припоминаю) объяснить ужас поразившего меня явления. Поросенок совсем как живой, с хвостиком, лежит в страшной неподвижности, разрезанный на куски… Ясно помню фамилию – барон Дризен.[69] Он устроил в Рязани любительский кружок, в котором (как я узнал впоследствии) со славой играют почти все Шелковы. Особенно мама и дядя Федя.[70] Позже фамилия барона Дризена начинает принимать переносный смысл. Я вижу, что тетя Саша[71] прячет на шкаф от своих детей виноград. «Почему?» – спрашивает мама. «К Ване (мой двоюродный брат) пришел барон Дризен», – отвечает тетя Саша.
Дед мой был цирюльник в старинном смысле этого слова. Он отворял кровь, ставил пьявки (помню их на окне в цирюльне), дергал зубы и, наконец, стриг и брил. И всегда, когда я забегал в цирюльню, там пахло лавандовой водой, стрекотали ножницы, вертелись особые головные щетки, похожие на муфту с двумя ручками, и дед и мастера весело приветствовали меня. Как я узнал впоследствии, по семейным преданиям, дед был незаконным сыном помещика Телепнева. Во всяком случае, дочери этого последнего всю жизнь навещали деда, нежно любили его, и, когда их экипаж останавливался у цирюльни, бабушка говорила деду, улыбаясь: «Иди встречай, сестрицы приехали». Благодаря сложности положения незаконнорожденного, у деда была какая-то путаница с фамилиями. Он был не только Шелков, но и Ларин. Мне объясняла мама почему, но я забыл. Отец мой, который считал, что русский писатель должен иметь русскую фамилию, хотел, чтобы я подписывался – Ларин, но я все как-то не смел решиться на это. Несмотря на свою скромную профессию, дед всем детям дал образование…
Из дядей я больше всего любил Колю[72] – худого, длинного, длиннолицего, который все показывал мне разные чудеса: то бузинные шарики прыгали у него в коробочке со стеклянной крышкой, то он звал меня в коридор дачи, и там разыгрывалось целое представление: зима. Кто-то появлялся из-под лестницы, ведущей во второй этаж, съезжал на санях с горки, валил снег, все хлопали в ладоши, и я был счастлив.
Я тогда говорил не теми словами, что теперь. Передавая теперешним моим языком тогдашние богатейшие мои ощущения, я, конечно, вру, но поневоле. Привычные мои детские воспоминания как бы прикрыты отныне этими сегодняшними страницами. Но вместе с тем, оттого что сознательно я не лгу ни в одном слове, что-то встает передо мною живее, чем до сих пор. Немые дни как бы начинают и говорить и дышать.
29 июля
Квартира с большим садом у людей по фамилии Дуля. Хозяева – военные. Тут я обрезал палец левой руки, средний, и сохранил шрам до сих пор. И порезал-то не сильно – на неудачном месте – на сгибе. Здесь же я под столом разговаривал с кошкой, и вдруг она протянула свою лапу и оцарапала меня. Это меня оскорбило. Ни с того ни с сего, без всякого повода и вызова протянула спокойно лапу – вот что обидно, – да и оцарапала. Будто дело сделала. И вскоре после этого – еще большая обида: теленок, который казался мне огромным, бычок с едва прорезавшимися тупыми, еле видными рожками погнался за мною по саду и догнал у самого перелаза во двор. И прижал своими тупыми рожками к плетню. Это само по себе было обидно, но еще обиднее показалось мне то, что, прогоняя теленка, мама смеялась!
Но вернусь в Рязань. Мирные разговоры на балконе и удивительно спокойный и ласковый дедушка, который, по маминым словам, ни разу в жизни не повысил голоса. Правда, он все грозил мне, что выпорет меня крапивой. И поэтому на карточке его, присланной нам после его смерти бабушкой, стоит надпись: «Милому внуку на память о дедушке крапивном». Но я отлично понимал, что угроза шуточная.
2 августа
Из отрывочных воспоминаний – забыл записать посещение театра. Давали, как я узнал уже много позже, «Гамлета». (Это было в Екатеринодаре.) Помню сцену, по которой ходили два человека в длинной одежде. Один из них – в короне. «О духи, духи!» – кричал один из них. Это я изображал дома. Незадолго до этого я научился здороваться и прощаться. И после спектакля я вежливо попрощался со всеми: со стульями, со стенами, с публикой. Потом подошел к афише, имени которой не знал, и сказал: «Прощай, писаная». Все засмеялись, что очень мне понравилось.
3 августа
Отрывочные воспоминания собраны как будто полностью. Папа после ареста не мог жить и служить в губернских городах – и вот мы переехали в Ахтыри на Азовском море. Здесь отец поступил врачом в городскую больницу. С этого времени я помню все подряд, отрывочные воспоминания кончаются. Это, вероятно, 99–900 годы. Мне четыре года.
18 августа
Но вот, наконец, совершается переезд в Майкоп, на родину моей души, в тот самый город, где я вырос таким, как есть. Все, что было потом, развивало или приглушало то, что во мне зародилось в эти майкопские годы. Как бы в ознаменование столь важного для всей семьи события мы поехали в Майкоп не обычным путем. В дальнейшем мы ездили туда так: до Армавира или Усть-Лабы поездом, а оттуда на лошадях, в так называемом фургоне, до места. На этот же раз мы поехали в карете! Прямо до самого Майкопа… Помню и ночлег – вероятно, не на постоялом дворе. Стол, покрытый вязаной скатертью. Диваны в чехлах. Альбом с фотографиями. А главное, первый в моей жизни переплетенный за год журнал, который привел меня в восторг, – «Родина», издание Каспари. На последней странице каждого из пятидесяти двух номеров журнала смешные картинки. Я с трудом отрываюсь от толстой книги, чтобы поужинать, и долго отказываюсь идти спать. И вот, проехав в карете около ста верст, мы попали, наконец, в мой родной, счастливый и несчастный город.









