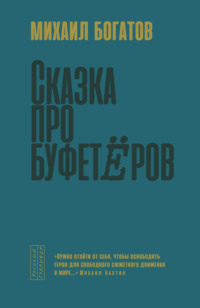Полная версия
Имя Твоё
Куда туманнее выглядит для нас то, что наступило сразу же после нарушения этой самой тайны, туманно как в отношении отца Георгия, так и в отношении всего мира, из чего, тем не менее, вовсе не следует, что отец Георгий воплощает собой весь мир, или же, что интереснее, что весь мир этот наш только и делает, что воплощает собой отца Георгия, ведь было уже сказано, что отец наш Георгий не Бог, а Бог Отец наш, а коли даже и был бы отец Георгий Богом, откуда же нам знать, хватит ли мира на целого Бога или же достанет ли Бога на мир, будь Бог священником, в чём-чём, а в этом мы совершенно бессильны и некомпетентны. И даже так сказать, нам видится туманным то, что стало, с одной стороны, с отцом Георгием после нарушения им тайны исповеди, и, с другой стороны, что стало после этого события с миром, даже так сказать мы не можем, поскольку представить себе не в силах сторонами чего и кому эти, одна и другая, могли бы явиться. Кроме того, есть столько же поводов говорить о нарушении тайны исповеди как о некоем событии, сколько и расценивать его, это самое нарушение, как банальную случайность. Либо вообще как ничто. Ведь если отец Георгий и нарушил тайну исповеди, то он никому не нарушил само это её нарушение, а потому лишь Господь мог бы сказать нам это, но всё, что Он мог сказать нам, мы можем сами прочесть в текстах Священного Писания, уже упомянутой Книге Книг, где, из текстов этих мы с искренним изумлением и даже отчасти с негодованием узнаем о том, что про отца Георгия и его проступок Господь там ничего нам как раз и не говорит, вот и явилась нам ещё одна случайность, вроде как и совпадение тупое даже, какое бывает, когда кто-то нарушает закон и его, раз, и не поймали, либо же, два, и поймали. По-крайней мере, отца Георгия никто не поймал и ловить не собирался, но мы-то уже понимаем, догадываемся так сказать своими догадками, что если кто и не пойман, то вовсе из этого не следует, что не вор он, непойманный этот, а скорее наоборот из этого следовать может; в самом деле, с чего бы это кому-то невора случайно не изловить: глупости всё это одни и не более. Понятно только, что нечто произошло, вообще что-то произошло, из этого нарушения исповеди, даже если и не было его, нарушения этого, и даже если отец Георгий никакой никому не отец и никакой никому не Георгий, но мать шести детям почтенного весьма семейства, к примеру, в самом деле, откуда нам с вами, тут находящимся, все эти подробности смочь разглядеть, если, к тому же, мы с вами вообще непомерно разделены, да так непомерно, что даже померев, этого разделения не преодолеть нам с вами, никаких нас с вами не существует даже, лишь нас, вами, через запятую. Лишь здесь, возле отца Георгия, нарушившего тайну исповеди, столкнулись мы с вами лбами, сгрудились, так сказать, как случайно проходящие зеваки на кошмарно закономерную смерть, и нам даже не важно уже, и никогда мы этого отныне не узнаем наверное, отец Георгий, нарушивший тайну исповеди, не является ли он сонным и развалившимся в шезлонге, в тени, австралийцем, разглядывающим издали прыжки кенгуру потому только, что смотреть больше не на что, или же матроной, повелительно указующей своим толстым кривым пальцем, с дорогим перстнем, на дверь незадачливому похотливому другу незамужней и чересчур молодой её дочери; мы с вами не узнаем этого, и всё же, грудой нависли, каждый своей грудой, а если сказать нежнее, то грудкой или же грудью, представление того насколько непрочен и химеричен любой наш с вами союз, наверное, уже получено, покончим с этим и двинемся дальше, сгрудимся, солбимся и слоктимся, некоторые даже могут слоктаться потихоньку, не отвлекая остальных, двинемся так, чтобы узнать, что будет дальше. Но тут наверняка появляется он, тот кто всегда мешает следовать общему желанию двигаться дальше, и не тот, кто желает двигаться, напротив, ближе, но тот, кто вообще не желает двигаться, этот совершенно бессмысленный для любого, даже столь химеричного и несущественного, наподобие нашего с вами сообщества, человек. Он появляется и говорит: постойте, будто мы уже ушли, лучше бы нас вообще не было, постойте, но о чём тогда вообще можно говорить, говорит он, если даже отец Георгий, нарушивший тайну исповеди, единственное, что нам было известно до сих пор, о чём можно продолжать говорить и полагать, что движешься дальше, если даже это единственное может оказаться не тем, как оно нам уже предстало; прервать в клочья это возмущение можно единожды и лишь с первого раза: говорить можно вообще о чём угодно, мы это и делаем, полагаясь на литературу, даже Господь в Священном Писании своём на неё положился, но, обратите внимание, из этого вовсе не следует, что мы произвольны в своем именовании отца Георгия отцом Георгием, а тайны исповеди тайной исповеди. Мы к тому лишь, что всё так названное может затем или с самого начала даже оказаться совсем не тем, тем, что так не называется. Мы уверены лишь в том, что не изменится то, что мы, пусть и неверно, здесь называем. И у нас нет времени ждать, пока это само назовётся, к тому же само никогда собственно и не называлось с начала, и даже у Бога, как уже упоминалось, был не он Сам, но Слово, пусть оно и называлось Богом; само никогда не называется изначально собой, а лишь впоследствии отзывается словом Нет на свое всегда не то именование. Вещи и люди сами собой говорят лишь Нет, и воистину мудрым посчитаем мы того, кто видит это, не в пример вот этому, так нетактично нас остановившему. Вот и нам уже отозвалось своим Нет то, что мы тут назвали нарушением тайны исповеди и тот, кого мы назвали тут отцом Георгием, мы это отчетливо слышим, и потому честно предупреждаем об этом отозванном возгласе сразу. Но если кому-то нужно больше точности, пусть он на этом и остановится, на чём остановился, точнее Нет вещей и Нет людей, простите за это слово, начинает приедаться и припеваться, ничего точнее, значит, нет.
Но всё завершилось стремительно, да не по кругу, как водится у тех, кто оседлал коняшек карусельных, а под откос, и трудно себе представить, какие изворотливые вращения претерпевала душа отца Георгия, извращаясь самой себе супротив, какие томления измышляли его в терзаниях, под конец таки истерзавших его не под чистую, а в грязь мерзостную, и не понятно совсем уж никому, откуда здесь взялся взгляд похотливой девчонки, которая смерила своими тёмными очками рясу отца Георгия, очками, видящими лишь глянцевые оболочки пустых журналов, и даже не похотливый взгляд, ведь все видели журналы, но не становились от этого похотливыми, хотя, может и становились, кто же их знает, но просто не ясно, откуда отец Георгий почувствовал, что от неё вот, именно от неё, пахнет слиянием, потной постелью, откуда понял он это, ведь не думал до того ни разу, не о постели, разумеется, в которой каждую ночь засыпал, и не о постели с женщиной разумеется, даже с такой юной как эта девочка, о чём думал тоже, но мысли гнал, а о том, что может вообще такой запах быть, к тому же там, где он в принципе невозможен, девушка шла по другой стороне улицы и наверняка пахла духами, а отец Георгий, Боже упаси, не парфюмер. И если от этого Боже упас, то от остального совсем наоборот, даже если и не было ничего из только что сказанного, кроме извращений души, томлений духа и коловращений осиновых в сердце вампирском. Прежде чем не стало отца Георгия, дел он натворил своих в мире не меньше, чем в мыслях, покаяние коим лишь понимающие люди да Бог обрести смогут, а таких мало встретить можно, некоторых же вообще никогда, в то время как девушек, издалека раздающихся тленом постельного слияния, встречаешь куда как чаще, на каждом втором шагу, даже если шаги твои обряжены в шорохи черной рясы. Что натворил отец Георгий, повторяем, нам неизвестно, равно как и то, о чём он при этом или до того думал, а зарисовка, точнее заговорка с девушкой, невожделенно вожделение раздающей тут могла появиться просто так, поскольку какое дело, например, было бы до неё отцу Георгию, будь он той самой матроной с кривыми пальцами, особенно с указующим, какое, кроме завистливой ненависти? Или же, будь он тем самым вялым австралийцем, какое ему было бы дело, кроме слащавой и трусливой похоти? Но ни ненависти, ни похоти отец Георгий в своем сердце никогда не держал, а потому, почитай, и не испытывал. Так бывало, раз кольнет вспышка в груди ненавистью или в желудке похотью, но не даст им слиться отец Георгий воедино, не возбуждает его ненависть, и не испытывает он ненависти к вожделению, нет, отчаянием и болью, требующими исполнения молитвы, заполняет отец Георгий мельчайшие промежутки времени между тем и другим, такие мельчайшие, что даже лезвие ножа не вставить меж ними без помощи освящающей молитвы, как в случае камней пресловутых египетских, то есть языческих пирамид. Вот так и мазал раствором молитвы отец Георгий тесанные рабскими страстями булыжники ненавистей и похотей, так и создавал он для своей пирамиды вид и форму отчаянной боли, скрепляющей в человеке лучшим самое постыдное, так и порождал он день за днем в себе чувство, что всё, без молитвы бывающее, лишь отчаянием и болью крепится, и лишь молитва, пусть самая краткая даже, Иисусова, лишь молитва позволяет покаяние почувствовать и освобождение обрести, дабы хоть глазком одним окинуть величайший план пирамиды своей жизни, окинуть так, как никакой строитель сделать не смог бы, ибо умирает ещё до завершения постройки, аккурат в момент, когда упадёт на него камень последней страсти. Но посредством молитвы вознесение в мыслях отец Георгий обретал и созерцал величие замысла Божия в отношении никчемности его, отца Георгия, прискорбного прозябания в плотской жизни. И потому не причём тут эта девушка несчастная и пусть идет себе куда шла, с Богом, к чёрту.
А пока уходит она, посмотрим ей вслед, не с похотливым намерением, конечно, а мысленно благословив, как любую тварь должно благословлять, на земле обитающую и в греховную материю свою душу вместившую, ведь все заслуживают искреннего сострадания, и эта дева похотливая не меньше, чем отец Георгий в сострадании нуждается, и никто кроме Господа решать не в силах и делить живущих на сострадание достойных либо же нет. Никто, и даже отец Георгий, а смотреть вослед уходящей уже не опасно вовсе, подлинная опасность соблазна исходила от чёрных стекол глаз её, тут она похотливо вторгалась в душу всякого, кто мужеским полом наделён от природы своей, и, притом, этим наделом дел наделать способен нечестивых. Если же похоть не покинет отца Георгия, когда он вослед обратится к ушедшей и давно уже скрывшейся с глаз девушке, то верным свидетельством для всех будет, кто отца Георгия знает, что сам уже отец Георгий похотью воспылал, а девушка совсем не причём тут, поскольку станет она тогда жертвой чужих страстей, а не охотницей собственных удовольствий, что часто бывало не только с отцом Георгием, к примеру, коего повторять и примерять никому не следует, а со всеми и даже со святыми, и возможно с ними больше всего случалось, воспылавшими хоть раз в жизни страстью великой и преступной к изображениям девы Марии, или, что хуже намного, зато встречается реже, к обнажённому телу Христову взгляд непростительных желаний полный украдкой поднимавших, и тело
Христово, что понятно, это не хлеб тайной вечери, а вполне себе мужское тело. Но кощунственно вне всякого сомнения вязать в один узел тело Христово, вдохновением небесным в своем изображении освящённом, с исчезнувшей из поля зрения отца Георгия живой и даже непростительно живейшей девушкой, и хоть Господь и Сына своего, и девушку эту в равной мере к миру приобщил, но сделал он это с разными намерениями, если вообще о намерениях Господа мы сможем говорить осмелиться. А подумалось отцу Георгию, что вот поразительно похожа та, у кого он исповедь эту несчастную выслушал и принял, девушка чересчур почтенная, поразительно похожа она на вот эту, только что прошедшую мимо, похожа, да не она. И занялись мысли отца Георгия дивным изумлением полниться, отчего это между тем, что почти свято и тем, что почти нараспашку развратно, сходство дивное имеется, и стал думать отец Георгий, что сходство это вопреки божественным устремлениям в мире божьем пребывает, и что взгляд, усмотревший сходство любого рода между святым и развратным, не иначе как сатаной направляется, и не иначе как по его наущению видеть способен. А пока ужасается отец Георгий открывшейся ему очередной бездне страха, сколько он их уже вынес за последние дни жизни своей, пока страшится отец Георгий того, что он сам уже в самую глубокую бездну стремительно несётся, которую геенной огненной называет кто о ней знает, пока бормочет отец Георгий молитвы с просьбой защиты и спасения, пока припоминает он подходящие места в псалмах ветхозаветных, припоминает с всех сил и припомнить не в силах, зададимся вопросом и мы, поскольку можем себе наивно представить, что не касается нас суеверием внушённая опасность сатанинского искуса, поскольку полагаем себя достаточно защищёнными от всего этого тонким, но надёжным листом бумаги, на котором эти строки выведены, пока мы думаем, что нас-то ничего из тут говоримого нисколько не касается и коснуться лишь в целях развлекающих может, итак, пока лжём мы себе о себе и заблуждаем себя в книге, спросим: откуда же отцу Георгию настолько хорошо известна внешность той, которая исповедалась ему и чью исповедь он нарушил, ведь коли не видел её отец Георгий прежде, не смогло бы ему в душу сатанинским наущением запасть Богу не угодное сравнение и уличение в схожести греха и святости, уж не нарушил ли отец Георгий требование не видеть того, кто ему в сердце своем исповедуется, а коли так, можем мы возмутиться, непонятно почему правда, католическим нарушениям этим, и успокоиться на том, ибо принятая неподобающим образом исповедь исповедью зваться не может, а потому и нарушить её собственно никак не возможно. И здесь уже придётся вникнуть-таки в некоторые, почти пикантные подробности этой самой истории, вникнуть не с алчным интересом уже упоминавшихся любителей катастроф и смертей, равно как и не с интересом ещё не упомянутых, но куда же без них, любителей светской хроники и сплетен вокруг знаменитостей и богачей пускаемых, но вникнуть единственно ради того, чтобы сообщить окончательно и бесповоротно о том, что исповедь отцу Георгию была высказана даже не в пределах дома Господня и с нарушением почти всех возможных требований церковных, но, тем не менее, будучи так неподобающе принятой, оставалась исповедью, и, следовательно, могла разглашению подлежать, точнее, как раз, разглашению подлежать никак не могла, и, тем не менее, разгласилась. Здесь мы уже обратимся к некоторым особенностям положения отца Георгия, которое он в этом мире занимал, покуда его не призвал к Себе, а Кто его призвал, Бог или же дьявол, знать не можем, покуда его не призвал к Себе Кто-то в иной этому миру мир, в горний или же в геенну, которой так ныне и не без оснований на то опасается отец Георгий, можно сказать наверняка было бы, лишь установив Того, Кто отца Георгия призвал к Себе, что, повторяем, нам никаким ведом не ведомом, да и как мы могли бы установить этого Самого призывающего, если Сам Он нас всех вкруг Себя устанавливает и находится тут вечно?
Церковь Святого Иеронима, к которой в службе своей принадлежен был отец Георгий, слыла самым крупным приходом в районе Города, имя которого упоминать здесь смысла нет, не в целях ложных конспирации либо же кокетства, но лишь в силу несущественности оного, не знаем мы, воистину не знаем, как этот Город назывался и даже предполагать того не хотим, как он называться мог бы, не хотим исключительно в силу лености своей, на которую теперь имеем полное право, поскольку нет ничего зазорного в той лени, которая предотвращает нас от придумывания имён несущественным для истории деталям в несуществующем повествовании. Достаточно сказать только, что в истории этой мы той самой ленью руководствоваться повсеместно будем в полной мере, и доказательством тому пусть послужит отсутствие имён у всех людей, которые до сего момента упоминались, за исключением отца Георгия, несмотря на то, что все эти вышеупомянутые свои имена имеют и имеют на имеющиеся имена свои именные права, и австралиец, и матрона, и её дочь, и жених её дочери, и мать шестерых детей, и каждый из шестерых детей, и девушка, прошедшая по улице. Её имя мы, впрочем, еще может и узнаем, и даже вскорости, за остальных же ручаться не будем, они бы за нас и историю нашу точно бы не поручились, гроша ломаного не дали бы, а дали бы лош громанный, а вдруг придумается имя кому-нибудь из них вопреки плодотворным усилиям лени нашей, да и прорвётся словом на чистую страницу, кто же его, это имя, знает. Вот мы пока не знаем и знать не хотим, о чём и сообщили. Из этого не следует, правда, что то, что мы знать захотим, мы непременно и с необходимостью узнаем, и ближайший пример тому неизвестный путь души после смерти отца Георгия, путь, его душой проделанный, о котором нам очень хотелось бы узнать и изложить тут во всех подробностях, встав на полку к Данте, однако же нет, не ведаем, не знаем, несмотря на отсутствие лени и на присутствие хотения в этом самом направлении. Что же касается Города, то он в этой истории будет всего один, будет еще усадьба загородная и дача летом жарким, Деревня детства далёкого, да и Столица, возможно, когда-нибудь будет, а пока нет её, и не предвидится. Церквей в Деревне одна, в Столице имя им легион по числу, да и в Городе немало, хотя до числа зверя еще расти и расти, есть куда стремиться, вот только известно точно, что церковь Святого Иеронима в завидном географическом, точнее экономическом положении по отношению ко всем городским церквям находится, живут тут несколько сотен верных прихожан, а собственности и богатства на их души приходится столько, сколько у оставшихся тысячей тысяч нет. Похоже, не пристало нам здесь по меркам этим низменным мерить положение церковное, ведь будь даже церковь Святого Иеронима церковью Всех Юродивых, которая, напротив, находится в самом нищем квартале Города, служители её всё равно все были бы равны перед Господом в несении службы своей к спасению души призывающей и через путь отречения мирских богатств ведущий, но, видимо есть разница какая-то даже для руководства церковного в том, чтобы либо спасать души, за душой у которых гроши, спасать между делом и по случаю, либо спасать души, за душой у которых душок денежный веет, спасать усердно, днём и ночью, когда все бедные люди давно уже пьют в несчастиях своих и спят в беспросветной безнадёжности нищенства своего. Служитель Церкви служит всегда, о чём уже упоминалось в самом начале, более того, он служить так призван, чтобы служба его как можно лучше могла отправляться, а потому приходится считаться её служителям с прихожанами и их образом жизни, не чтобы угодить жителям богатого района, как о том помышляют жители бедного, но чтобы Господу угодить в душеспасительном деле Его, в спасении душ жителей богатого района, душ, которые так и норовят в бездушные золотые слитки обратиться, о чём благодаря языческому царю Мидасу всем христианам известно стало. Ведь даже служители церкви Всех Юродивых считаются с особенностью нравов своих ближайших прихожан, и тут уж, дабы лучше спасать приходские души, надобно постоянно заботиться о спасении своих священнических телес, и запирать на ночь церковь Всех Юродивых, предоставляя дело ночного спасения прихожан делам рук самих прихожан, рук и прочих органов правопорядка и не очень правого порядка.
Так и выходило, что отец Георгий имел постоянные беседы с жителями богатыми и знаменитыми, ежели со стороны глядеть, а по сути всё с теми же заблудшими овцами, не менее остальных нуждающимися в пастыре, да только менее остальных об этой своей нужде ведавших; а потому постоянно не достаёт у них времени на подобающее всякой христианской душе посещение служб церковных во время их проведения. Службу в угоду занятости мирской, естественно, никто не переносит, зато служение Господу тут выходило в силу этих обстоятельств за время непосредственного отправления службы, и выходило почти всегда за пределы самой церкви. Ходили священники часто по приглашению в дома своих наиболее влиятельных в мирском отношении прихожан, дабы не дать блуждающим окончательно в искушающем мирском блуде заблудиться, в грязи греховной погрязнуть и в плутовстве хитростном заплутать. И у всех девяти священников церкви Святого Иеронима, к благородному числу коих причислялся и отец Георгий до того, как ещё жив был, у всех девятерых были свои прихожане, коих посещать постоянно следовало. Можно даже сравнить эту надобность с закреплением за врачами определённых участков, где больные в здоровых посредством врачевания обращаться должны, всё так же, за тем исключением только, что врачевание души нельзя лекарством или же хирургической операцией раз и навсегда осуществить, что у врачей иногда с телом получается, и забота не о теле. но о душе постоянная требуется, и если врач теряет своих клиентов после их смерти, то Церковь воистину их обрести лишь тогда может, хотя удостовериться в приобщении души к горнему миру, как мы только что убедились на примере души отца Георгия, куда невозможней, чем зафиксировать смерть тела по завершению его медицинским освидетельствованием.
Марфа, пусть так будут звать ту, которая исповедовалась отцу Георгию и чью исповедь он нарушил, пусть так, подсказывает нам только что поминаемая наша лень, она да ещё кое-какие, не могущие тут быть упомянутыми соображения, Марфа была дочерью весьма знатного военачальника, который, уйдя на раннюю, как водится у военных, пенсию, ныне занимал весьма высокий начальствующий пост в городском Управлении, чин всем известный и по всё той же лени тут замалчиваемый; и видел потому отец Георгий Марфу два раза в неделю в доме её родителей, куда влекла его служба Господу, и почти каждый день в церкви, из чего, однако, не стоит делать вывод о том, будто все дочери высоких чиновников и старейших военачальников, тем более, отцы этих дочерей, каждый день в церковь ходили и почитали это своим нормальным распорядком. Нет, тут всё дело в самой Марфе, которая действительно весьма набожной девушкой слыла среди сверстников своих, родителей и служителей церкви, хотя основанием для её набожности могло послужить лишь частое посещение ею церкви и долгие беседы с приходящим священником дома. Знал её тут каждый, хотя бы потому, что сумела Марфа жизнь свою духовному ритму либо же видимости оного подчинить полностью, и видели её всегда идущей в церковь на вечернюю службу, ибо днём не могла она посещать дом Божий, равно как и по утрам, за исключением воскресных дней, поскольку училась она с утра в Университете, а днём, после учебы, посещала дополнительные курсы, преимущественно иностранных языков, пророчил её родитель к жизни заграничной, несмотря на то, что сам укоренился по самую крону в почве этого Города, да так великим дубом по всей стране слыл. Родитель пророчил, да только нам-то уже доподлинно известно, что неисповедимы пути Господни, а потому предполагания наши далеко не всегда с божественным распологанием совпадают в стройную линию судьбы счастливой, а уж ежели и совпадают, то так, что никто и предположить не смел; к примеру, можно предполагать свою дочь живущей за границей, имея при том на уме в качестве чего-то само собой разумеющегося границу географическую, а Господь распорядится так, что будет она жить за границей, да только границей здесь будет тонкая грань душевного равновесия, по одну сторону которой в миру расположились психологи, а по другую, в том же, но более странном, миру, психиатры расположились. Да и так всякому было понятно, что не сможет эта почти святая, её так в соседях сначала в насмешку, а затем вследствие уважения прозвали, не сможет она без веры нашей и без распорядка своего духовного в чужих землях и с иными нравами совладать достойно, да только родителю её никто почему-то не осмеливался эту ясность всякого донести, по особенности жёсткого нрава его военного да по высоте общественного положения. Вполне возможно, что отец Марфы был прав в отношении своих планов по обустройству её будущей жизни, ведь окружающие судили Марфу по тому, что им было известно, что у них было на виду в её деяних, ходила в церковь, но при этом нисколько не ведали о том, что она делала помимо церкви; и если можно было догадаться о том, чему её должны были учить в Университете, юриспруденции, то совершенно невозможным делом было бы узнать, чему именно она там училась и как именно она всё понимала; отец это, понятное дело, знал не больше остальных, а потому, вероятно, будучи человеком опытным, привык не полагаться в отношении других людей на то, что о них известно, равно как и на то, что о них не известно, чем собственно и занимаются все начальствующие чины, а потому даже если он был прав в отношении своей дочери, а другие не правы, то прав на собственную правоту он имел больше остальных в силу лишь одного-единственного обстоятельства, в силу того, что являлся Марфе не соседом и не ровесником, не священником и не грядущим коллегой, но банальным высокопоставленным отцом. Нам могут возразить и напомнить, что, поскольку отцов не выбирают, даже в детских домах выбирают не отцов, но детей, то есть куда больше людей, мечтающих хотя бы умереть в надежде родиться в следующей жизни у такого обеспеченного и начальствующего отца, каким был отец Марфы, людей, прозябающих в нищете и унижениях, людей, с трудом сводящих концы с концами. А потому, если мы не равнодушны к судьбе этих людей, то следует уважать их мнение и посчитать вслед за ними, что называть отца Марфы, уважаемого всеми Льва Петровича, банальнейшим есть непростительная оплошность или же намеренная коварная ошибка с нашей стороны. Ну, во-первых, к судьбе мнений таких людей, прямо скажем, мы равнодушны, во-вторых, уважая их, что мы вполне и по мере возможностей исполняем, не стоит путать, как обычно не говорится, любовь с постелью, ведь уважать страдание, это одно, а уважать мнение страдающего совершенно другое, и не стоит думать, что нищие телом пренепременно богаты духом, статистически, так сказать, всё обстоит наоборот, а в отношении нищих телом статистическое это самое верное средство, покуда только в цифрах нищета в уме у нас спокойно существует, а с глаз мы её в единичном выпячивании её мерзостном и постыдном гоним дальше, отворачиваем нос и затыкаем уши, хотя и выпячется она снова и снова, так и бытует, выпячиваясь вовне скандально и пребывая в статистике покойно. А потому не будем поддаваться соблазнам и повторим: отец Марфы не такой как все отцы, банальные в своём отцовстве, но так сказать особенный среди всех банальных, банальнейший. Ведь банального отца, ежели он от ребенка что-то требует в жизни его, ребёночьей, до собственного гроба распоряжаться отец ежели намерился, ребёнок этого самого отца не послушаться спокойно может и аргумент выдвинуть: всё, к чему ты меня можешь привести своими намерениями, если я твоими словами всецело руководствоваться буду, в лучшем случае доведёт меня до такой же жизни, какая у тебя случилась, но, поскольку она у тебя банальная, будь добр, предоставь мне возможность свою хоть чуть лучше устроить, скажет так ребёнок, даже вопреки тем убеждениям своего родителя, что как раз улучшить жизнь можно лишь от поколения к поколению укрепляя заложенное предками подражание старшим. Так и бывает у либеральных детей с отцами банальными, если, кроме прочего, дети еще и сыновьями уродились. С дочерью отцу сложнее, тут мать на подмогу придти должна, а уж если отец такой как у Марфы, то такая ещё пропасть между ним и дочерью его зияет, что ни одного возражения не смеет произнести отцу дитя его, а если ещё отец начальник и хотел бы сына на место своё, жизнью собственной выстраданное, посадить, а сына у него, так сказать, никак не сложилось, а лишь дочь сложилась и та набожная, так вообще дело худо. И было бы Марфе худо, если бы как раз не то, отчего ей худо дополнительное должно было в глазах отца быть, если бы не эта самая, непонятная всем остальным, её набожность, позволяющая родительские провокации в качестве не руководства к действию, действию, которое должно убедить в итоге спровоцированное дитя в изначальной правоте родителей, а правота эта меняться может со временем, только изначальность под сомнение не ставится, не в качестве провокации, но креста чужого на плечах своих нести, подобно киринеянину Симону, который от Иерусалима до лобного места сроднился с крестом Христовым, за что благодать ему в выси небесной; Марфе же от креста чужого лишь ярость родителя её за облегчение и спасение души её, которое в смиренном послушании обреталось ею через молитвенные слезы, ото всех скрываемые. Только мать ведала влажность утренних подушек своей дочери, ведала, да не говорила о том с дочерью, поскольку сама всю жизнь плакала и до сих пор плачет, и с отцом не говорила, от которого у обеих слёзы те как раз и лились, с той лишь разницей, что у одной слёзы эти были голым страданием, а у другой к Господу нашему возносились и облегчение несли, облегчение не психологическое, но духовное, а кому как не нам знать о том, что ни одна психология не задавалась никогда целью путь к духу подлинному найти, но, напротив, так подкопать его стремилась, чтобы рухнул он в бездну страстей анонимных.