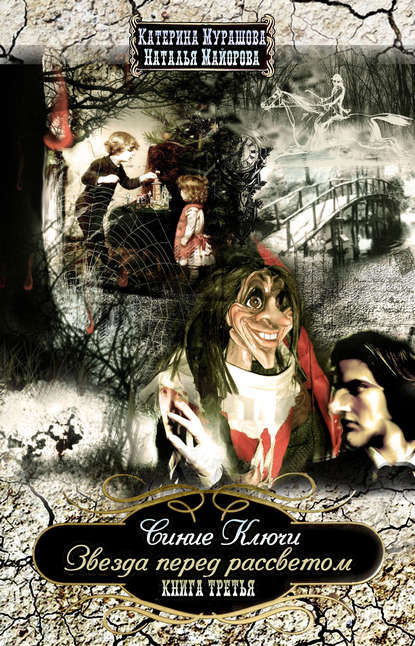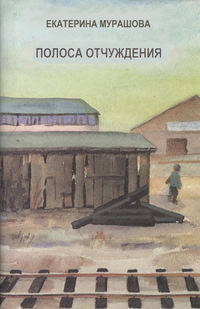Полная версия
Представление должно продолжаться

Екатерина Мурашова, Наталья Майорова
Представление должно продолжаться
Старые усадьбы
Дома косые, двухэтажные,И тут же рига, скотный двор,Где у корыта гуси важныеВедут немолчный разговор.В садах настурции и розаны,В прудах зацветших караси,– Усадьбы старые разбросаныПо всей таинственной Руси.Порою в полдень льется по лесуНеясный гул, невнятный крик,И угадать нельзя по голосу,То человек иль лесовик.Порою крестный ход и пение,Звонят вовсе колокола,Бегут, – то значит, по течениюВ село икона приплыла.Русь бредит Богом, красным пламенем,Где видно ангелов сквозь дым…Они ж покорно верят знаменьям,Любя свое, живя своим.……О, Русь, волшебница суровая,Повсюду ты свое возьмешь.Бежать? Но разве любишь новоеИль без тебя да проживешь?..(Н. Гумилев)Пролог,
В котором офицер и его денщик, возвращаясь с полей Первой мировой войны, неожиданно попадают в зачарованное волшебное царство.
Конец сентября, 1918 год
– А заправляет там всем ледяная девка Синеглазка…
Осень – рыжая лиса. Пробегает мимо, лукавая, с острой мордочкой и теплым мехом. Машет ветреным хвостом – направо, налево. Плывут по Сазанке к Оке опавшие рыжие и золотые листья. Хочется стоять под ярко-синим небом с непокрытой головой и ждать зимы.
Но людям все неймется и они куда-то едут, или плывут, или даже летят. На поездах, пароходах, аэропланах, на автомобилях, верхом…
Вот и от железнодорожной станции в Алексеевке едут на крестьянской подводе двое. Лежат на сене, запрокинув руки за головы, смотрят в небо. Лядащая лошаденка трусит помаленьку. Возница как будто задремал.
– Гляди, Федот, какое небо синее…
– Точно так, Осип Тимофеевич, небо – как будто все жандармами застлано…(жандармы в царской России носили синие мундиры – прим. авт.)
– Нету нынче жандармов…
– Дак не только жандармов. Считай, ничего из прежнего не осталось… Новая власть…
– Чтоб ей пусто было… А что ты про Синеглазку-то говорил?.. Вранье ведь, конечно, байки…
– Никак нет, Осип Тимофеевич. Земляк наш с вами, Андрюха Еникеев из второй роты зимой в отпуск в Торбеевку поехал, обещал моих навестить…
– Да ведь Еникеев из отпуска не вернулся.
– Точно так. Дезертировал Андрюха. Однако слово свое сдержал, и мне в письме все подробно отписал.
– И что же?
– Я одно понял: в расположении Черемошни нехорошо.
– Так там красные или белые? Или анархисты какие, прости Господи?
– Не то! Не то! – бывший денщик помотал головой и понизил голос. – Нечисто там!
– В каком смысле – нечисто? – поручик удивленно поднял белесые брови. – Что за чушь? Тебя что, Федот, никак прошлогодняя контузия догнала? Вот не вовремя…
– Зря вы так, Осип Тимофеевич! – Федот укоризненно покачал головой. – Вы ж сами в этих местах выросли и понимать должны: в такое время, когда все наперекосяк идет, не токмо из отдельных душ, но и изо всех углов всякая пакость лезет…
– Согласен, – подумав, кивнул поручик (впрочем, погоны с его кителя были предусмотрительно спороты). – Но хотелось бы все-таки подробнее…
– Колдунья там над оврагом у ключей много лет жила, вы помнить должны. А теперь еще и оборотни в Черемошинском лесу завелись, и русалки, и кикиморы. И леший тропы путает и в болоте топит. А если кто замышляет чего-нито против Синеглазкиного воинства, так ее допрежь летающие огни предупреждают…
– Летающие огни? Вот так прямо летят и предупреждают? – Осип Тимофеевич иронически скривил губы.
– Так и летят! – неожиданно обернулся возница. – Я сам видал. Когда наши, алексеевские с торбеевскими стакнулись и хотели бар из Синих Ключей, как и прочих, как следует потрясти, и комитет калужский нам добро дал… Вот тут они, огни-то, нам навстречу и полетели… и птицы еще… и волки с железными зубами…
– С железными зубами?! Любезный, а ты вообще-то здоров? – обеспокоено спросил Осип Тимофеевич. – У тебя жара нет? Как тут насчет тифа?
Офицер с денщиком перевернулись и на карачках подползли ближе к рассказчику.
– Полсотни человек то же видала, ваше благородие, какой тут тиф…
– Ты это брось, нету нынче благородиев. Осип Тимофеевич я.
– А еще, Осип Тимофеевич, я о прошлой зиме вот этими глазами огромный пень видал…
– Пень? – недоумевающе переспросил Федот. – И что ж с того? Эка невидаль – пень…
Возница поправил шапку, поскреб скрюченными пальцами в бороде, потом ковырнул одним из них темную ноздрю. Словно сам испытывал беспокойство и неудобство от своего рассказа.
– Пень-то от старого дуба остался, который еще при отце моем молнией расщепило. И нож в него воткнут вот на эдакой высоте (возница показал себе на грудь), большой да ржавый…
– Ну. Воткнул кто-то по лесному делу нож да позабыл, – пожал плечами поручик.
Федот между тем нахмурился. Уроженцы одной деревни и почти друзья детства, поручик и его денщик все же происходили из семей разного достатка. Родители Осипа держали четырех лошадей, нанимали на жатву работника, и все трое их сыновей ходили в своих сапогах. У безлошадной Федотовой семьи на семерых детей приходилась всего одна пара сапог, и, несмотря на три года войны в окружении всех видов смертоносного металла, Федот помнил отчетливо: крестьянин в лесу большой нож просто так, за здорово живешь, не позабудет. А позабудет, так тут же и вернется. Бывшее ваше благородие, произведенный из унтеров в офицеры за военную храбрость, просто покуда не скумекал…
– Вот свернем сейчас на короткую дорогу, я вам и тропку тую покажу… А коли без вас ехал бы, так через лес и нету моего согласия. Страшно. Особливо после того раза… А вы люди военные, небось и оружие при себе, с вами не так боязно… Говорю: снег тогда свежий выпал. Я, помню, хворост на волокушу кинул, подошел на нож поближе взглянуть – может, сгодится еще? И вижу, что не я первый. Но вот диво-дивное: с одной-то, с моей стороны следы человечьи, а дальше, сразу по-за ножом – волчьи, да такие огроменные… А человечьих больше и вовсе нету…
– Через нож перекинулся?! – ахнул Федот.
– А ты что думал…
Въехали с поля в лес и сразу словно с деревьев спустились лиловые сумерки. Багрянец листвы напомнил Федоту пламенеющие угли на догорающем пепелище. Ему было совсем немного лет, когда в 1902 году пожгли и разграбили Синие Ключи. Мать за пазухой принесла с пожарища скомканную розовую занавеску в мелкий цветик и потом пошила из нее юбки сестрам. Федотка хотел рубаху, но ему не хватило… Тогда было до соплей обидно, что не удастся на ярмарке да в церкви перед ребятами пофорсить, а вот сейчас кажется – оно и к лучшему, что так обернулось…
– У страха глаза велики, – сказал Осип Тимофеевич. – Дикость российская.
Возница, не ответив, покачал головой, снял шапку и отер ею лицо. Лошаденка внезапно подняла щетинистую морду и заржала.
Федот вздрогнул и огляделся.
– Вон! Вон там, смотрите! – воскликнул поручик. – Что это?
Небольшое озерцо, или пруд, или просто заросший уже почерневшим к осени папоротником разлив лесного ручейка, бегущего из одного мшистого болотца в другое.
Темно-желтые кафтаны кленов, мерцание и судорожное трепетание осин – красные листья и изумрудный отлив серых стволов, сочная хохлома рябин – оранжевая с золотом тонкая роспись на черном фоне вечереющего ельника.
И тонконогая, медленно выступающая из сгущающегося под сенью леса мрака, белая фигура. Серебряная, подрагивающая шкура, огромные лиловые глаза, легко взлетающий сзади хвост…
– Лошадь? В лесу? Мелковата, но вроде хороших кровей. Откуда отбилась? Надобно нам… – договорить поручик не успел, прерванный сдавленным шепотом своего денщика.
– Какая лошадь?! Ваше благородие, вы ей на морду… на башку взгляните…
– Пошла! Ну пошла, мертвая! – дурным голосом заорал на свою клячу алексеевский возница.
Осип Тимофеевич вгляделся и ахнул.
На лбу удивительного серебристого создания отчетливо просматривался небольшой рог.
– Единорог…
– Точно так!
– Н-но! Ну давай, милая, ходу давай! Пока оборотни тебя вместе со шкурой и господами не сожрали!
– Послушайте, но ведь мы можем теперь узнать…
– Не можем, Осип Тимофеевич! – решительно возразил Федот. – Не для того я три года против германца живой выстоял, чтобы нынче до родителей с женой десяти верст не доехать!
Поручик покорился воле своих спутников, но, покуда было можно, все оглядывался назад, ловя глазами лунно-серебристый отблеск.
Когда подвода окончательно скрылась за поворотом дороги, невысокая девочка с ореховыми глазами вышла из еловой тени, улыбнулась, положила узкую ладошку на шею единорога, а другой рукой полезла в карман за сахаром.
Глава 1,
В которой Александр Васильевич Кантакузин и княгиня Юлия Бартенева ищут определения счастья и гражданских свобод, Адам Кауфман сравнивает восставший народ с бегущими вшами, а уездный доктор оглашает свое кредо.
Март 1917 года
Мужчина сотрясся в победной судороге, пробормотал невнятно: «Люблю, люблю, люблю…» – и тут же откатился по широкой кровати, замер, раскинув руки.
Женщина приподнялась на локте, с внимательным интересом рассмотрела его трепещущие коричневые веки, глубокие залысины на высоком, костистом лбу, синеватую шерстяную тень подмышками. Потом перевела взгляд в зеркало и встретилась взглядом сама с собой. Коснулась рукой груди, приподняла ее, осторожно ковырнула ногтем крошечный прыщик, поправила локон.
– Юлия, это счастье?.. – не открывая глаз, произнес мужчина.
Она не поняла, был ли в его словах вопрос, но на всякий случай ответила.
– Конечно. Белое полное счастье, тихое и чистое, как только что выпавший снег.
– И такое же холодное?
– Да. А счастье вообще холодно. К другим и на ощупь. Ты разве не знал?
Он вспомнил присыпанные первым снегом поля и перелески в Синих Ключах, и словно наяву увидел свою жену, лунной ночью скачущую по этим полям на лошади. Вниз, к только что замерзшему озеру, которое под опрокинутым звездным небом похоже на чашу, налитую ртутью. И многозвездный нимб над этой картиной… Едва не выругался вслух.
– Юлия, мы с тобой – свидетели истории. Это не может не воодушевлять.
Она подумала, что именно революция вдохновила его наконец-то лечь с ней в постель, и усмехнулась.
Постель, где они лежали, была такая обширная, что двоим любовникам не удалось привести ее в беспорядок. За приоткрытой рамой широкого окна трепетал почти апрельский ветер – пытался шелохнуть хоть край тяжелой портьеры, пробраться в комнату, пролететь, разогнать духоту. Кованая цапля – напольная лампа (Юлия заказывала ее по швейцарскому каталогу перед свадьбой вместе с будущим мужем), изогнув длинную шею, свысока взирала на темное тело мужчины, вытянувшееся на простынях.
– Алекс, я не историк и не пролетарий, – сказала женщина. – Войны и революции не воодушевляют – они пугают меня. К тому же я – княгиня Бартенева, то есть по рождению и замужеству принадлежу к тому классу, против которого и направлена эта революция.
– Не говори ерунды, – горячо возразил мужчина. – Сейчас всем предстоит огромная работа. И она будет проделана непременно. Неужели ты не понимаешь? Теперь, когда хирургическим путем нарыв вскрыт, удалена вся гниль самодержавия, и Америка наконец вступила в войну… Германия истощена и обречена, при поддержке союзников и Союза Американских штатов наша обновленная, революционная армия победоносно закончит войну, а после войны все требования России несомненно будут удовлетворены… Ты только представь себе ожидающее нас могущество: контроль над Проливами, древний Византий в составе третьего Рима, республика… Я понимаю, что это только начало и еще многое предстоит сделать… Но ведь даже американский президент Вильсон сказал: это правительство должно быть хорошим, потому что его возглавляет профессор… (П. Н. Милюков, историк по образованию – прим. авт.) Наконец-то Россию возглавят лучшие люди, а не казнокрады и выжившие из ума мистики… После победы интересы всех классов общества будут учтены, каждый получит свое…
– А разве мы уже победили? – зевнув, спросила княгиня. – Отец говорил мне, что в русской армии развал – солдаты дезертируют тысячами, потому что боятся: дома без них начнут землю делить и, как всегда, обманут. Там, где противники австрийцы, процветает продажа оружия противнику. Там, где немцы, наши доблестная армия просто отказывается воевать и бежит, бежит…
– Это отдельные разложившиеся части, где имели успех большевистские пропагандисты, которые агитируют за немедленное прекращение войны. Представь: все армии должны побросать оружие, обняться через колючую проволоку, а потом разойтись по домам. Там им следует тот час же перебить все образованные, управляющие обществом классы, объединиться в упоении анархии и… вероятно, сдохнуть от голода? Не следует считать солдат дураками, немногие из них могут вдохновиться подобной чушью. В целом армия, конечно, в восторге от революции. Ведь за солдатами впервые признали гражданские права…
– Ты уверен, что гражданские права – это именно то, что им сейчас нужно?.. А, впрочем, ты, конечно, прав, я ничего не понимаю во фронтовых делах, – женщина потянулась, выгнув спину. – За три года войны я, может быть, единственная в нашем кругу, никогда не работала в госпитале и не посылала собственноручно сшитые кисеты «нашим бедным героическим солдатикам». Во мне недостаточно то ли доброты, то ли лицемерия…
Она сидела к нему боком и смотрела в зеркало. Мужчина не слышал ее слов, он видел ее двигающиеся губы и пепельные волосы, изгибом стекавшие по спине вдоль затененной ложбинки. Она в зеркале поймала его взгляд и улыбнулась медленной, пробующей саму себя на вкус улыбкой.
– Ты как вино, – он угадал ее мысль (это часто бывало между ними). – Я пьян тобою.
Она удовлетворенно кивнула и положила свои прохладные кисти ему на плечи. Он обхватил ладонями ее запястья, сжал их и застонал сквозь зубы от обуревающих его чувств.
Оконная рама чуть слышно звякнула – это усилившийся ветер проник таки в комнату и раскачал золоченую портьерную кисть. Цапля вытянула клюв и застыла, примериваясь, кого ловчее клюнуть, женщину или мужчину.
* * *Адам Кауфман – Аркадию Январеву
Из Петрограда в расположение 323‑й Юрьевецкого пехотного полка
31 марта 1917 года
Аркаша, дорогой, какие нынче события, а?
Кто бы мог подумать?
Почта работает плохо, на фронте, как я понимаю, значительная неопределенность, я даже не знаю, дойдет ли мое письмо, но все равно не могу удержаться и пишу тебе.
Нынче я по обычаю пребываю в полной растерянности – ты знаешь, меня всегда по настоящему пугало все, что происходит на площади, превышающей поле зрения под окуляром микроскопа или размер одного человеческого мозга. Плюс второй смысл: агора – площадь неконтролируемого извержения эмоций толпы. Я трусоват. Со времен, когда в московском дворе незлая в сущности свора сорванцов подтравливала «жиденыша»?
Ты же, напротив, никогда не боялся движения масс и даже приветствовал их. Камешек по имени Аркаша, приветствующий схождение лавины. Торжествуй теперь!
Помнишь, я грезил охотой на львов в саванне? А профессора Сазонова, читавшего у нас зоологию позвоночных, помнишь? Он рассказывал нам про сезонное движение по саванне антилоп-гну – когда наступает время, они несутся по вековым маршрутам неудержимо, миллионными стадами. Прыгают с откосов, переплывают реки, вытаптывают почву до камней. Извечный враг антилоп, лев, случайно оказавшийся на пути этого ежегодного потока, будет поглощен и насмерть затоптан в течение минуты…
Моя аналогия прозрачна до примитивности? Прости, если оскорбил твои чувства…
Но не думаешь ли ты, что нынче, когда все таким радикальным образом меняется, и движение приблизительно разумной материи свершается буквально у нас на глазах, тебе должно быть в центре событий? Не того ли ты и твои сподвижники ждали все эти годы? И не довольно ли уже фронтовой схимы и смиренных масок – солдатского унтера, загадочного Знахаря с непонятно откуда взявшимися медицинскими познаниями и журналиста-инкогнито, – которыми ты жонглируешь с небрежной грацией символиста и, кажется, с достаточным удовольствием.
Возвращайся, Аркаша. Коли Москва тебе противопоказана из личных историй, приезжай в Петроград. Хотелось бы ошибиться, но скоро тут будет избыток с юности любимой тобою работы: если фронт развалится окончательно и солдатская масса затопит столицу (уже сейчас тому есть все признаки) – грядут эпидемии.
Я видел все доподлинно, буквально заставлял себя смотреть, несколько раз ходил на митинги в «Модерне». Ибо решившись посвятить жизнь врачеванию психики человека, не имею права отворачиваться ни от каких данных, могущих пролить свет на закон функционирования этой самой психики. Однако, как много зоологии… Повсеместно буквально вспоминал господина Дарвина и завидовал ему, его жизни в уединенном поместье страстно – он был подлинным революционером в науке, но ему не довелось жить в эпоху перемен.
От общего уличного и салонного воодушевления меня все время тошнило, в самом буквальном смысле. Все дни так называемой революции периодически совал два пальца в глотку и очищал желудок. Тогда ненадолго наступало облегчение.
Громкие дамы в огромных шляпах с красными бантами, торжествующие писаря и присяжные поверенные, в сюртуках, с измазанными чернилами пальцами. Малиново-красная тяжелая мебель в бельэтаже (хочется, справедливости ради, порезать обивку ее на флаги). Пузырьки в бокале шампанского. Празднуют свободу. Кого? От кого?
И колышущиеся толпы на улицах, ходящие туда-сюда. Как бездумно тянущиеся, темные змеи. Время от времени женщины (там было очень много женщин, я думаю, ты отвык от этого на фронте) начинали мерно и страшно завывать: хлеба! Хлеба! Хлеба! Кому они кричали? Царю – слабому и беспомощному заложнику своей семьи и своего, ныне безнадежного, положения? Кайзеру Вильгельму? Автомобили с фонарями и ревущими клаксонами – горящие глаза змеи и погремушки на ее хвосте. Знаешь, что самое ужасное? Ведь никто ничем не руководил. Всем просто хотелось думать, что происходит нечто осмысленное, кем-то где-то запланированное и наконец осуществленное.
Где-то на улице услышал привычное про жидов, которые все устроили, и, буквально сорвавшись в истерику, бросился туда: покажите мне этих жидов! Я сам жид и хочу их видеть! Шарахнулись и разбежались, как кошки, в которых плеснули водой…
Никого нет. Лишь судорога гибнущего (или перерождающегося?) на наших глазах общественного организма.
Кто-то зачем-то поставил заставы на мостах. Словно соблюдал напоследок правила игры или, напротив, любопытно проверял неврологическим молоточком рефлексы толпы.
Люди перелились через парапет и, рассыпавшись (черное на белом) вшами из солдатской шинели, двинулись по льду Невы на другую сторону. Куда, зачем? Что им там было нужно? Сезонное движение антилоп?
Вчера с нашей служанкой Агафьей побывал на митинге кухарок. Всем рекомендую. Отрезвляет мгновенно, потому что любой поймет: ничем принципиальным этот митинг от всех других не отличается. В конце приняли резолюцию: если хозяин уважительно попросит, так почему бы ему чаю не подать, даже если и в неурочное время? Подать. Главное – соблюдать уважение к свободе и не допускать контрреволюции.
У меня на Лунной Вилле тоже состоялся митинг. Даже два. Отдельно – больных и отдельно – служащих. Резолюции наклевывались аналогичные вышеприведенной, с незначительной поправкой на умственное здоровье контингента. Однако я выступил на обоих и повел себя как настоящий контрреволюционер. Любые несогласные с режимом, процедурами, заработком и т. д. могут покинуть заведение с вещами в течение часа, – заявил я. Никаких репрессий не последует, наоборот, будет мною встречено с пониманием, ибо сумасшедший дом теперь снаружи, а у нас на Вилле пока – тихая гавань. Те, кто все-таки останутся, будут неукоснительно соблюдать все мои требования. За нашу и вашу свободу – ура, товарищи душевнобольные!
Из больных еще до всяких митингов ушла Луиза Гвиечелли. На прощание сказала именно то, что я привел выше: сумасшедший дом – снаружи и, кажется, теперь надолго. Я должна быть там, это правильно и справедливо.
Из персонала разбежалась половина. Оставшимся я удвоил жалованье и обязанности. Пока справляемся. Трое (истопник, прачка и один из санитаров), намитинговавшись и опамятовавшись, уже просились назад. Не взял, конечно.
Как уступку революции, разрешил больным выбрать комитет и издавать газету. Название, по крайней мере, хорошее: «Вести из «желтого дома»».
Очень плохо со снабжением. Только два дня хлеб был без карточек. Справятся ли самоназначившиеся в конце концов революционные власти с этой проблемой, удастся ли им организовать регулярную подвозку продовольствия? Ведь железнодорожное сообщение вконец расстроено войной, плюс солдаты, которые едут с фронта десятками и сотнями тысяч. Хотелось бы обмануться, но по-моему, к Петрограду теперь подступает не контрреволюция, а голод…
Аркаша, что говорят в штабах и вообще на фронте: когда кончится эта война?!
* * *– Мне, ей-богу, все равно. На том стою и стоять буду, доколе сил хватит. Все кругом рушится, а люди-то все также горло простужают и животом маются. Я, можно сказать, счастливчик, по нынешним-то временам. Я служу – вы это понять можете? И если хоть раз позволю себе усомниться, выбрать, рассудить: вот этот моего искусства достоин, а этот – слишком уж негодяй, так далее я уже чем угодно буду – только не врачом. Политиком, философом, революционером и носителем классового сознания, если пожелаете… Люди людей по-разному делят. Пролетарии и эксплуататоры, бедные и богатые, нашего племени и не нашего. За разделение, за ошибки кровью платят. Своей и чужой. Мне жить, если пожелаете, просто. Вот деление: больные и здоровые. Больные – моя вотчина, моя работа. Здоровые – мне до них, если честно сказать, и дела никакого нет. Поверите ли, если бы случилось вдруг встретить человека абсолютного здоровья (хотя, право, есть ли теперь такие? У кого вроде и органы все в порядке, так глядишь, с нервами беда бедой – тоже ведь болезнь), так мне с ним, должно быть, и поговорить не о чем стало бы… Смешно даже, как подумаешь, какой я в сущности ограниченный человек стал. А тоже ведь в молодости не дурак был у тетушки в имении, на веранде, под самовар и баранки об идеалах поспорить.
Где границу провести? Вот – разбойник-душегуб, человека убил, руки по локоть в крови. Вроде бы все с ним ясно. Не достоин. А вот банковский мошенник, липовые акции выпустил, после объявил банкротство, сам обогатился, а сотню доверчивых вдов разорил, так половина из них от горя – в чахотку и на кладбище. Это – как? Тоже не достоин? А вот, изволите ли видеть, – борец за народное счастье. Чтоб одних счастливыми сделать, готов мировой пожар раздуть и тысячи других погубить… А тоже человек, катар желудка через свои старания запросто подхватить может. С ним-то как же?
Кругленький лысенький доктор закончил делать перевязку, поправил старомодное пенсне и отправился в угол комнаты – мыть пухлые мягкие руки.
Жестяной, до стерильности выскобленный рукомойник позвякивал сдержанно и деловито. За низким окном видны были разросшийся малинник, забор и угол крыльца, на котором, как всегда, невзирая на время года, суток, войну или ее отсутствие – дожидались свой очереди к доктору смиренные уездные больные.
– Совершенно с вами согласен, Петр Ефимович, – Аркадий Январев кивнул забинтованной головой и расслабленно откинулся на стуле. – С каждым вашим словом. На этом именно стоит и стоять будет…
– Да вот вы-то сами на чем стоите? – я разобрать не могу, – любопытно блеснув остренькими глазками и намотав полотенце на толстое запястье, Петр Ефимович едва ли не присел, чтобы заглянуть в лицо сидящему унтер-офицеру. – И – знаю-знаю! – не надо только мне этих сказок про лесную бабку-знахарку и прилежного внука – оставьте их для неграмотных солдат и таких же малограмотных прапорщиков военного времени. Я спрашивал в полку о ваших назначениях и видел результаты лечения – вы никогда не молились пням и не варили зелья в котлах, вы учились у настоящих профессоров и работали в современных больницах…
– Простите, Петр Ефимович, но я ничего не стану вам объяснять, – на свежей повязке, как первый мазок художника на белом холсте, проступило алое пятнышко.
– Да ради Бога! – обиженно поморщился уездный доктор. – Понимаю прекрасно: за вами какая-то сложнейшая и противоречивая судьба, кто я такой, чтобы вам со мной откровенничать? Но попробуйте-ка, любезнейший Знахарь, вот в каком разрезе рассудить: отчего бы вам именно сейчас, в момент всеобщих разрушений и преобразований, с собою не определиться? Самое как будто бы время. Кто вы такой? Вас же эта раздвоенность теперь буквально на части разрывает.