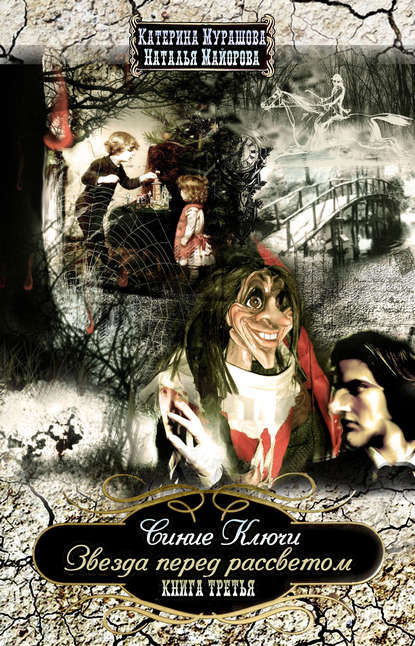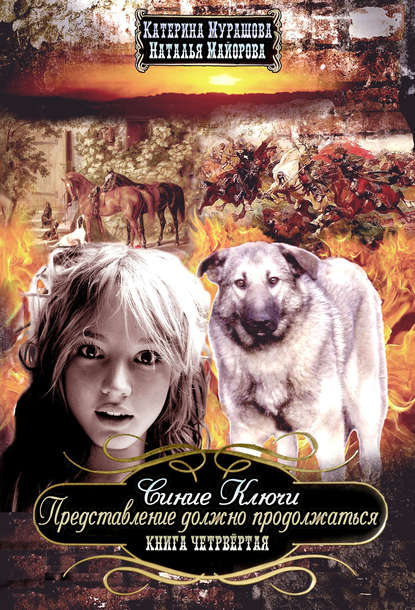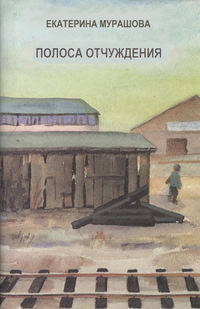Полная версия
Танец с огнем
– Потрудиться? Как, как, Липа? Вразуми! Я ведь и вправду все не так поняла! Глупа я, корьем в лесине своей заросла, правду ты говоришь… Что ж мне сделать-то? Говеть, к причастию идти, это ясно. А еще? По вечерам на коленях молиться, на службы из леса ходить? И пусть все смеются, и отец Даниил, и мальчишки дразнят, это мне испытание от Господа, да?
Танины тускловатые глаза зажглись синим фанатичным огнем.
– Да ладно тебе, ладно, – мысленно попятилась назад Липа. Она лучше других знала, что такое идефикс, засевший в мозгах беременной женщины. – Тут главное, чтобы ребеночку не повредить. Два раза за неделю сходишь, и довольно.
– Но обязательно на воскресную, да? Да, Липа? Чтоб народу побольше, и колокола звонили, звонили…
Колдунья усмехнулась, но промолчала.
Горели в печке дрова, по комнате плыл синеватый дымок. Филин Тиша внимательно наблюдал за людьми и еще за крупной мышью, которая, балансируя хвостом, шла по балке к полкам с крупой. Хорошо бы слететь с насеста и поймать ее. Но летать в избе неудобно, можно больно удариться крылом, да и еду – крупно нарезанные кусочки курятины или иной птицы – вечером принесет Липа на блюдце с колокольчиком. Пускай наглую мышь ловят коты. Зачем-то же хозяйка держит в доме этих противных животных…
Стойкий дух от многочисленных, развешанных на веревках пучков трав, цветов и побегов. Корешки в березовых туесках. Паутина в углу. Аккуратно подписанные настои и отвары на полках в стеклянных банках. Две полки с книгами и большая стопка пожелтевших газет.
Бывшая московская акушерка Олимпиада Куняева не знала, грамотна ли Таня. Могло сложиться и так, и эдак. Мысль дать ей прочесть повесть господина Куприна показалась пожилой женщине достаточно забавной. Но это уже было, как сказала бы сама Таня, от лукавого. Жизни ребенка на данный момент ничего не угрожает? Вроде бы уже нет. И на том спасибо.
Липа зевнула и с удовольствием подумала о вечерней рюмочке портвейна… и, пожалуй, действительно можно будет по случаю перечитать «Олесю»…
* * *– Глэдис, он меня выгнал! Яша выгнал меня, и я теперь непременно умру! Я теперь хорошо, очень хорошо понимаю, как и отчего умерла в Синих Ключах моя мать. Это очень просто – внутри все постепенно выгорает с дикой болью, и вместо души остается жирная черная сажа и летучий седой пепел. Так сгорела моя мать, я знаю, я видела этот болючий пламень в ее глазах на портрете. И ни один, самый лучший врач не вылечит эту болезнь…
В небольшой комнате со скошенным потолком Люша металась, как лесная куница, запертая в тесной клетке. Воздух спиралью завивался вокруг ее небольшой фигурки и пах пудрой, потом и звериным мускусом.
– Можешь разбить стакан, вот этот. Только не кидай его в окно, – спокойно сказала Глэдис Макдауэлл, немолодая актриса, когда-то выступавшая на Бродвее, а потом прихотливым переплетением судеб занесенная в Россию.
Теперь она танцевала, пела комические куплеты и жонглировала в том же загородном ресторане, где выступал хор Яши Арбузова.
Люша с яростным воплем разбила высокий стакан об покрытый оранжевой мастикой пол и каблучком растоптала осколки.
– Только потом не забудь все убрать, – зевнула Глэдис. – Я ночью на горшок босиком встаю, не хочу ногу наколоть…
– Глэдис! Большая Глэдис! Твоя Крошка Люша так несчастна! – девушка с размаху бросилась на пол и, издав горловой звук, средний между рыданием и рычанием, уткнулась лицом в колени актрисы.
– Ага, ага. I understand: you are unhappy, (я понимаю, ты несчастна, – англ.) – Глэдис ласково погладила Люшу по волосам. – Это случается в молодости every now and again – как сказать по-русски?
– То и дело, – машинально, не поднимая головы, перевела Люша.
– То и дело, – согласилась Глэдис. – Потом опять и опять… А сейчас мы с тобой будем пить кофий с коржиками.
Актриса высвободилась, встала, запахнув на полных крепких бедрах фиолетовый японский халат, расшитый драконами. Разожгла огонь в спиртовке, поставила на нее кофейник. Достала из небольшого буфета тарелку с коржиками, посыпанными корицей.
– Глэдис! Глэдис! – Люша, не вставая, с силой покатала голову на шерстяном покрывале покинутой лежанки, отчего волосы ее сбились в неопрятный войлок. – Ты была подругой моей матери, которую я совсем не помню. Ты спасла меня, когда я зарезала Ноздрю и меня искала полиция и Гришка Черный. Скажи же скорее: что мне делать теперь?! Могу ли я хотя бы помогать тебе в твоих репризах? Хочешь, я буду твоим гуттаперчевым мальчиком? Мне уже много лет, но я маленького роста и все еще достаточно гибка…
– Здесь надо думать больше, чем одну минуту, Крошка Люша, – Глэдис наставительно подняла длинный палец с желтоватым, загибающимся к ладони ногтем. – Я, конечно, не против взять тебя к себе, но Яша наверняка этого не захочет и станет настраивать хозяев ресторана, пугать их скандалом… Он ведь выгнал тебя, испугавшись скандала, так?
– Да, да, – Люша несколько раз кивнула. – Ты права, он не позволит мне… Я отомщу ему! Ведь я ни разу не нарушила ни одного из их законов…
– Не говори ерунды! Яша должен заботиться не только о себе, но и обо всех хористах. Ты же лучше меня знаешь, как это устроено у цыган… В общем, из Стрельны он тебя выживет в любом случае. А я уже слишком стара, чтобы менять locality (место обитания – англ.)…
– Хорошо, – Люша перестала рыдать, и подняла к Глэдис почти спокойное, бледное, уже отмытое от грима лицо. – Что ж поделать. Тогда я умру. Но прежде, наверное, еще убью кого-нибудь. Двух-трех, я думаю… Это, конечно, неправильно. Может быть, мне сразу удавиться, не дожидаясь?
– Э, нет! – усмехнулась Глэдис. – Удавиться было бы для тебя слишком просто. Как говорили у нас на Бродвее, show must go on, то есть представление должно продолжаться любой ценой. И у меня уже есть по этому поводу кое-какие мысли. Хотя, возможно, они тебе и не очень понравятся… Крошка, здесь я должна тебя спросить: ты любишь мужскую любовь? Я помню, что замуж ты вышла только для того, чтобы завладеть поместьем… Но кто-то другой, в прошлой или нынешней жизни?
Люша сидела на полу и, свернув кулек из старой афиши, сосредоточенно собирала туда осколки стакана. На вопрос Глэдис она ответила не сразу.
– Наверное, правильно будет сказать, что я к ней равнодушна…
– Тогда что – любовь между женщинами?
Девушка взглянула на Глэдис с удивлением.
– Конечно, нет. А что – на это похоже?
– Ты вообще ни на что не похожа, Крошка Люша, – с досадой сказала актриса. – Как говорят у вас: ни богу свечка, ни черту кочерга. Но ведь, когда ты танцуешь, ты умеешь завлекать…
– Конечно! – с неподдельным энтузиазмом воскликнула Люша, поднимаясь на коленях. – Я могу любого завлечь, если он еще на ногах стоит. И многих, которые уже лежат, тоже. Не забывай, я же на Хитровке росла и… слушай, Большая Глэдис, я понимаю, что ты американка, но все равно ведь интересно: если мужчина становится мужчиной, то про него у нас говорят «мужал». А если женщина – женщиной? Как про нее сказать? А по-английски можно?..
– She matured at the years? (она мужала с годами – англ.) – предположила Глэдис. – Кажется, в английском нету разницы…
– Отлично! Значит, я matured на Хитровке, – Люша приободрилась, ее глаза налились синевой и заблестели. – Так ты что, Глэдис, действительно знаешь бордель, где под твое слово со мной согласятся заключить контракт на два месяца в году, по месяцу зимой и осенью? Чаще я не смогу приезжать… И мне ведь, кроме этого дела, еще обязательно надо танцевать, ты понимаешь? Но они ничего не станут про меня узнавать? А что там за клиентура? Я, ты понимаешь, дурных болезней боюсь, не за себя, конечно, но у меня же там дети…
– Погоди, погоди, Крошка Люша, не суетись. Торопливость, как у вас говорят, нужна только при ловле блох. Мне нужно все обдумать, навести справки… В общем, ты сейчас убирайся от греха подальше в свои Синие Ключи и сиди там тихо, как мышь под веником. Когда все будет готово, я скажу, и Бартенев за тобой приедет.
– Княжич Сережа Бартенев? – улыбнулась Люша. – А он разве…
– Я буду действовать через него.
– Но Глэдис, помилуй, я совсем запуталась… Зачем Сереже бордель, где я буду завлекать мужчин? Или мы с ним будем на пару… конкуренты?!
И Люша, не удержавшись, рассмеялась своим странным булькающим смехом, от которого у многих мурашки бегали по коже, а некоторых начинало даже мутить. Глэдис, несмотря на привычку, поморщилась.
– Прости, – извинилась Люша, которая давно знала реакцию окружающих на свой смех и оттого смеялась крайне редко. – Но уж очень забавно представилось, как мы с Сережей вместе на сцене, в таких пышных юбках и обязательно почему-то видится в красных чулках…
– Ох-хо-хо, – покачала головой Глэдис.
Два раза в жизни Глэдис Макдауэлл от всей души надеялась, что, выйдя замуж за помещика и родив ребенка, дорогие ей существа обретут счастье и покой. Ляля Розанова и Люша Розанова. Оба раза американка ошиблась.
«Ну что ж тут поделаешь, – философски подумала Глэдис. – Может быть, замужество и богатая ферма в родном Канзасе меня бы и устроили. Но, скорее всего, это мне только кажется… Хуже другое, – продолжала размышлять немолодая актриса. – Иногда мне кажется, что вот этой внутренней болезнью-пожаром, которую так красочно описала Крошка, больна вся эта страна. Российская империя. Но, если это так, что же будет лечением? Всеобщие танцы во всероссийском борделе? И все – в красных чулках?.. Будем надеяться, что я до этого не доживу…»
Глава 7,
в которой герои ищут пропавшие сокровища Ляли Розановой, гадают и едят кугель в веселом еврейском семействе.
Над столом висела большая лампа с розовым абажуром в форме тюльпана. На комоде, кокетливо выставив локоток, стояла розовая же фарфоровая пастушка и тикали ходики. Их тиканье сливалось с равномерным чавканьем сидевших за столом детей и мужчин. Все они молча и сосредоточенно поглощали мятую картошку с подливой, заедая основное блюдо крупно порезанными кусками ситного хлеба, квашенной капустой и сочащимися едким соком солеными огурцами. Картошку ели ложками, капусту брали из деревянной миски щепотью, подставляя хлеб, чтоб не капнуло на стол. Самого маленького ребенка из четверых, коему на вид едва исполнился год, кормила сестра-семилетка, у которой он сидел на коленях. Высокая крепкая женщина с уложенной короной косой, не садясь, подавала на стол.
Когда картошка была съедена, все дети, кроме меньшего, поблагодарили Бога и родителей за хлеб за соль и попросили у отца разрешения выйти из-за стола. Отец – русобородый, с мясистым широким носом, похожим на только что съеденную картошку, взглянул на мать. Женщина, стоя у комода, едва заметно кивнула. Детей отпустили. Старший сразу ушел в угол, развернул тетрадку, взял карандаш и принялся готовить уроки. Семилетка развлекала малыша, расстилая перед ним разноцветные лоскутки и заворачивая в них маленькие деревянные чурочки. Ее младшая сестра достала из ящика лысую куклу с облупленным носом и сосредоточенно нянчила ее, тихонько напевая какую-то песенку.
Младший из мужчин принес из кухни самовар. Женщина подала чашки, наколотый кусками сахар и баранки. Увидев баранки, младший ребенок начал хныкать, и показывать на них пухлым пальчиком. Девочки глядели на сахар, но ничего не говорили. Мать раздала всем по баранке. Малыш сразу начал мусолить ее, семилетка куда-то незаметно припрятала, ее сестра разломала на мелкие кусочки и предлагала их кукле. Старший мальчик с деланным равнодушием положил баранку на край стола и явно задал себе какой-то урок. Мать, отходя от него, со снисходительной лаской потрепала русые вихры сына.
– Светлана, да сядь ты наконец, посиди с нами, чаю испей, – сказал отец семейства. – Что ты все хлопочешь.
Женщина тут же присела к столу, налила себе чай, потом перелила его в блюдечко и, аккуратно подняв блюдце на трех пальцах, отхлебнула. Мужчины пили из чашек, вприкуску.
– А что, Ваня, какие у тебя на фабрике дела? – спросил младший из мужчин.
Иван наморщил лоб, явно соображая, что отвечать.
– Про забастовку скажи, – подсказала жена.
– А! Бастовать опять хотят, это да. Ходят агитаторы всякие и еще листовки раздают.
– А ты что же, Вань?
– Да я не знаю. У меня-то самого все вроде в порядке. Я механик, а машины что ж – они не разговаривают и до политики им дела нет… Но тоже ведь, если подумать, люди не дураки, не зря беспокоятся… вот агитаторы говорят, надо требовать от фабрикантов своих прав… А какие у меня права? И чего я от нашего хозяина Таккера могу потребовать? Я тех прокламациев и прочитать-то толком не могу… Светлана вот у меня в фабричную школу год ходила, там так ловко читать навострилась… Она мне и разъясняет…
– Ладно, Ваня, ответил, все, Степка услышал, – негромко сказала женщина. – Услышал ведь?
– А то, – Степан усмехнулся.
Его старшая сестра командовала простоватым Ваней еще тогда, когда они все вместе жили в Черемошне. Все происходило не слишком явно для постороннего глаза, но с тех пор, как Степка один раз сообразил, не замечать этого стало уже невозможно. При том Ваня реально являлся кормильцем и главой семьи, работал механиком на канатной фабрике Майкла Таккера, получал там вполне приличное жалованье, был ценим на работе и по соседям за умные руки и безотказность. По видимости он принимал и все решения внутри семьи. Во всяком случае, дети и посторонние слышали их именно от него, а Светлана всегда оставалась в тени, впрочем, недалеко, чтобы иметь возможность по ходу дела разрешить возникающие у Ивана вопросы и недоумения. Ваню в таком положении вещей все устраивало, а Степан искренне восхищался умением сестры по-умному вести семейные дела.
– А что ж у тебя в Синих Ключах? – спросила Светлана брата. – Все без толку пока?
– Да пустое это дело, Светлана, – мрачно сказал Степан. – Коли уж до сей поры не нашлось, так и вовсе не найдется. Так я думаю.
– Ерунды-то не говори! – прикрикнула Светлана. – Не языком надо молоть, а дело делать. Не останавливаясь. Тогда и толк будет.
– Да где же оно, где? – нервически морщась, возразил Степан. – Пока дом перестраивали я, считай, каждое бревнышко, каждую доску в полу обстучал, обнюхал, разве что языком не облизал. Двор тоже перекопали, в фонтане плитку переложили, якобы во время пожара она от жара потрескалась. Что ж еще? И сколько ж можно!.. Да нету их там! Нету! Надо, я думаю, забыть про все и жить дальше, вон как сама Люшка живет…
– А что же, Любовь Николаевна и вправду про пропавшие материны драгоценности позабыла? И про бриллиант тоже? – с интересом спросила Светлана. – Это из-за болезни ее? Или просто вид делает?
– Да помнит она все. Мы с ней как-то будто невзначай про это дело заговорили, я навел. Ничего она не забыла, конечно, описала легко, как я тогда в окно в отцовский кабинет влез, а она передо мной во все это наряжалась. И как потом Александра Васильевича с этой его Юлией бриллиантами да рубинами дразнила. Ей просто дела нет…
– Да как это может быть, если там одних камней выходит на многие тыщи?! Старый барин ведь когда Торбеево продал, все деньги подчистую на украшения для цыганки пустил. Да еще наследство барыни Натальи Александровны… После пожара все исчезло неведомо куда, а ей и дела нет? Как так?
– А вот эдак… – Степан пожал широкими плечами. – Люшка к деньгам никогда жадности не имела. А про бриллиант и прочее сказала мне так: что ж, бог дал, бог взял, сгинули и ладно. Кому эти побрякушки счастье-то принесли?.. Надо и нам отступиться, Светлана… Нету там ничего…
– А вот и есть! – убежденно воскликнула Светлана.
Ваня между тем вылез из-за стола, принес из кухни свою рабочую кожаную сумку, достал из нее завернутую в промасленную тряпку железяку и пристроился с ней у небольшого верстачка в углу за платяным шкафом. Разговоры о пропавшем сокровище он и прежде слышал много раз, и они не вызывали у него ни малейшего интереса.
– Ты, Степка, сам подумай. Когда пожар случился, ларец с украшениями в усадьбе точно был, так? Так. Старый барин из него Люше играться давал, она тебе и рассказывала и даже раз показала. После пожара никто ни одной вещи из того ларца не видал и об нем не слыхал. Если б хозяева нашли, ты бы знал. Если б из деревенских кто или из челяди, он бы тут же свою жизнь поменял, и тоже слухи бы дошли – такие вещи крестьянину или кухарке впрок обычно не идут. Значит – что? Лежат они где-то, голубчики, дожидаются, когда их найдут… Тем паче, что Любовь Николаевна по твоим словам о них не вспоминает, Александр Васильевич в отъезде, Николай Павлович в могиле, а Юлия эта незнамо где… Мы только и помним, и сам бог нам велел…
– Черт тебе, Светка, велел, и ты сама о том ведаешь! – с неожиданной яростью выкрикнул Степан. Младшая девочка от испуга уронила куклу, а малыш заплакал. – Я бы и хотел позабыть все, да не выходит!
Вместо того, чтоб прикрикнуть в ответ, Светлана тепло улыбнулась брату и, плавно ступая, прошлась по комнате – бегло приласкала младшую дочь, показала козу младенцу, с уважением оглядела разложенные на тряпочке гайки, болты и пружинки, над которыми склонился Иван.
– Ты успокойся теперь, Степушка, – ласково попросила она. – Прошлого не вернуть, а подумай-ка лучше сам, что мы с такими деньжищами наворотить сможем… Детишек всех в университетах выучим, Ваньке мастерскую купим или уж фабрику фейерверков, мне – дом с землей, потому как все-таки тянет меня к крестьянству… а тебе в невесты такую раскрасавицу отыщем…
– Не нужна мне никакая невеста! – резко сказал Степан.
– Да как же – не нужна? – удивилась Светлана. – Когда Ваня в твоих годах был, я уж вторым дитем тяжелая ходила… Или у тебя завелся кто на примете? Так ты мне скажи…
– Ничего я тебе говорить не стану…
– А не хочешь, и не надо, – покладисто согласилась Светлана. – Но кто бы она ни была, от денег небось никоторая не откажется. Ты и так жених собою что надо, а уж если приоденешься по-городскому и пачку ассигнациев тебе в карман…
– Да что бы ты, Светка, в жизни понимала!
– Кое-чего понимаю, а кое-чего, знамо, и нет. Но это ж со всеми так, все-то только один Господь ведает… Ты лучше вот что мне скажи: ты амбары все проверил? Там под стрехами не то что ларец, там Ванькин станок спрятать можно…
Степка обхватил голову руками и не то застонал, не то заскулил – протяжно и тихо, словно от нестерпимой зубной боли.
– Водочки ему налей, – посоветовал Ваня из своего угла.
Младшая дочь Светланы оставила на сундуке уснувшую куклу, подошла к дяде и протянула ему кусок баранки, только чуть-чуть обгрызенный с одного бока. Степка молча обнял девочку и зарылся лицом в ее светлые, пахнущие мятой и молоком волосики.
* * *Зимой здоровье Камиши всегда ухудшалось. Уходил аппетит, каждый вечер поднималась температура, кашель мучил по ночам, а утром из-за слабости девушка не могла встать с кровати и весь день полусидела в тихой дальней комнате, приподнятая в подушках. Сразу же по семейству, друзьям и знакомым серой шуршащей змеей начинал ползти печальный слух: бедная Камиша угасает на глазах, доктора определенно сказали, что она не доживет до весны… Разговаривали шепотом, навещали «бедную Камишеньку» по одному, в очередь, которую устанавливала и регулировала строгая, мужиковатая прислуга Степанида, приставленная семьей к Камилле с самого начала ее болезни. Шторы и фортки всегда были закрыты во избежание сквозняков. Вся еда подавалась больной непременно в протертом виде (чтобы было легче жевать и проглатывать) и чуть теплая – чтобы не простыла и не обожглась. Обязательным считалось также обильное питье каких-то горько-сладких, приторных микстур, изготовляемых аптекарями по рецептам докторов, много лет наблюдающих течение Камиллиной болезни.
Все семейство считало особый режим больной делом совершенно естественным, и только Любочка Осоргина утверждала, что от пары недель такой жизни и здоровый обязательно заболеет.
Чтобы избавить Камишу от этого непременного зимнего «угасания», Любовь Николаевна на Рождество пригласила родственницу и подругу в Синие Ключи.
– Помрет, так помрет, – философски объяснила она свою позицию дядюшке Лео, архитектору и признанному главе обширного клана Осоргиных-Гвиечелли. – Похороним тогда. Но чего ж не повеселиться напоследок? Мы там у себя каток залили, елку для детей нарядили прямо во дворе, а Ивана Карповича слуга, раскосый такой, но не японец и не китаец (он его с собой из Сибири привез), научил нас собак в упряжки запрягать. По четыре или даже по шесть штук сразу. И сани специальные сделал. Очень ловко они бегут, когда не грызутся промеж собой, но и то тоже весело… А еще Степкин зять Ваня Озеров обещал фейерверков прислать. Они у него знатные выходят, только не всегда вовремя взрываются… А горки у нас какие! Лед, как стекло! Дети все в шишаках ходят, да и я сама недавно поехала спиной вперед и чуть шею себе не свернула…
– Любочка, ты не находишь, что те чудесные развлечения, которые ты описываешь, для Камишеньки в ее нынешнем состоянии слишком э-э-э… слишком энергичны? – осторожно спросил Лев Петрович. – Она давно не встает с постели, и я как-то плохо представляю ее себе на коньках или, тем паче, катающуюся верхом на твоих полудиких усадебных псах…
– Да не верхом, дядюшка Лео, на саночках, я же сказала, – с досадой возразила Люба. – Сами-то они саночки часто переворачивают, это верно, но если рядом с ними бежать, и орать на них все время, как Ивана Карповича слуга показал, то ничего… Камиша же собак и всякую живность очень любит!
Лев Петрович только тяжело вздохнул, но ничего не сказал. Он был немного рассеянным, но проницательным человеком, и отчетливо видел связь: все лекарства давно себя исчерпали; последние три года Камилла Гвиечелли жила только благодаря тому, что в ее жизни появилась Любочка Осоргина и связанные с нею новые многообразные впечатления.
Таким образом, несмотря на энергичные возражения Анны Львовны Таккер и большинства других «разумно мыслящих» членов семейства, Камилла вместе с сопровождающими ее Степанидой и Луизой оказалась под Рождество в Синих Ключах. В дороге она простудилась, отчего здоровье ее, вопреки всем надеждам, отнюдь не улучшилось.
Из окон отведенной Камише комнаты был виден двор с фонтаном и катком. Вечером там зажигали факела и огни на елке. Тени тревожно метались по потолку. Атя и Ботя прибегали с ледяными пальчиками и ярко-розовыми от мороза щеками и сразу лезли под подушки – там Камиша прятала для них пряники. Они приносили ей снежки и сосульки. Камиша тайком от Степаниды лизала и грызла их – ей нравился холод и пресный вкус талой воды. Атя советовала окунать сосульки в варенье, потому что так получается вкуснее всего, и даже стянула початую банку смородинного повидла у кухарки Лукерьи. Горничная Феклуша нашла ее под кроватью Камиши рядом с ночным горшком, когда мыла пол, и долго размышляла над тем, что бы это могло значить. Конюх Фрол скрепя сердце пожертвовал для собачьей упряжки старые бубенцы, и по их звону, а также по истошному лаю и пронзительным нечленораздельным крикам погонщика Камиша всегда знала, когда новое усадебное развлечение проносится мимо ее окон. По ночам сквозь черные ветви липы призывно помаргивали лучистые, промерзшие звезды.
– Гадать не будем, – решительно заявила Люша Марысе Пшездецкой, приехавшей в усадьбу на три дня погостить (дольше она не могла оставить трактир – «все же испоганят, черти!»). – А то Камишке в зеркалах вечно либо гроб видится, либо венок из белых цветов. Кому надо?
– Давай без Камиллы, – без надежды предложила Марыся.
Люша неожиданно согласилась. Марысе получился жених в высоком цилиндре, а когда на имя бросали валенок из-за амбара, то первым появился конюх Фрол, который выходил на улицу облегчиться. Марыся сказала, что муж по имени Фрол ей, пожалуй, не нужен. Люба посоветовала Марысе бросить валенок перед городской Думой. Там имена наверняка окажутся поблагороднее, если конечно раньше саму Марысю не заберут в участок. Луизе вышло путешествие на корабле, Ате – красивый дворец с высокими потолками, Боте – незнакомая девочка, танцующая на шаре. Сама хозяйка усадьбы не увидела в зеркалах ничего, кроме бурно пылающего костра.
Пока хозяйка была занята, в комнату к Камилле по предварительному уговору пришла горничная Настя и принесла все потребное для гадания. Обе не ждали ничего для себя хорошего, и ошиблись. Плавающая в миске скорлупка со свечкой подожгла слово «любовь» у Камиши и «перемены» у Насти. А в зеркальном коридоре Камиша явственно увидела дитя с золотыми волосами и веснушками на вздернутом носике. Дитя тянуло к ней ручки и весело смеялось.
После она не могла уснуть и едва ли не впервые в своей взрослой жизни думала о будущем. Под утро на стеклах выросли мохнатые узоры из инея, и Камиша сквозь них смотрела на медленный зимний рассвет.
А днем она сказала Любовь Николаевне, что сразу после Нового года уедет в Москву. Та не стала ничего спрашивать и только велела как следует утеплить огромную, но старую карету с гербами, в которой путешествовала Камиша и которая принадлежала еще матушке жены Льва Петровича.