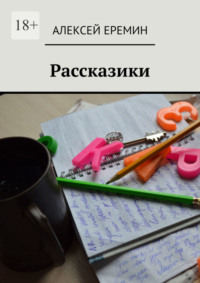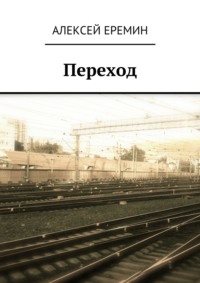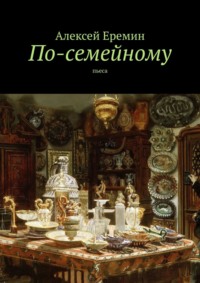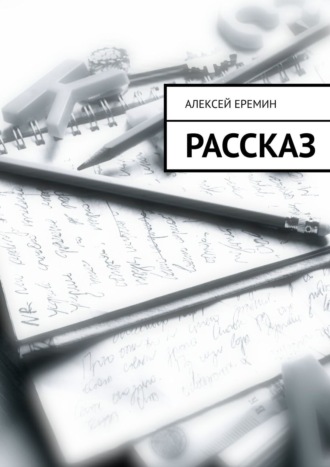
Полная версия
Рассказ
За площадкой похожей на корабль чёрные кораллы корявых деревьев. За негритянскими танцорами серая лава ручья в железных берегах легковых машин. В глаз попал солнечный мяч.
На другом берегу разбросаны в обгоревшей траве детские кубики; дома с проросшими между ними деревьями. Дальше возвышается квадратная в основании красная башня жилого дома. Башню со всех сторон освещает солнце, но слева завалилась на деревья отражением будущего её длинная тень.
Проворачиваю ключ в двери, запираю неудачу в квартире. Замок проворачивается и щёлкает на оборотах, словно человек чавкает.
Открыл замок, распахнул дверь, пнул носком ботинка преграду в комнату, бросился к столу, записал, что замок проворачивается, словно человек за едой чавкает.
Дверь захлопнулась, ключ заёрзал в железном чреве замка. Передавая словами образ, озвучить действие слогами предложения! Ключ в замочной скважине поворачивается, как человек за пищей чавкает!
Прокрутив рычаг пробежал к столу, записал предложение, приписав: «За пищей чавкает ужасно. Словосочетание изменить, созвучие сохранить».
Поворачивая ключ в замке, оглянулся на надутую чёрной кожей дверь. Вдруг соседи видели?! Они расскажут маме, она расстроится. Очень-очень глупо, по-дурацки выглядит внешне творчество. Но появилась идея, которой украшу рассказ!
Совершить свершение, прожужжать звуками движение!
Жужжащие с языка не слетят. Словно шмель во рту. Шуршащие о ступени подошвы отчасти шипящие, отчасти чёткие сочетания с т, тч.
Скриип двери на улицу. Слово скрип подражание писку петель?
Почти те же сочетания от чётких шагов, отсчитывающих части асфальта.
Справа раскрыты игольчатые створки ворот, ладони тянутся меня обнять. Теневая дорожка между отразивших друг друга пятиэтажных домов. Стены из грязных, когда-то бежевых кирпичей. Вдоль фасадов растут деревья. Крючковатые пальцы шевелятся, гнутся к земле, тянутся, чтобы схватить меня. Маленького героя в волшебном лесу.
Дома слишком близки, из окон спален видны чужие кровати. Нарастает грохот и шипящий шум дороги.
Ох, сколько людей.
Маленький герой внутри присел от неожиданности.
Перед бетонным вокзалом скован серым льдом овальный остров с жухлой травой, прозрачными домиками остановок. Машины, словно тараканы от света светофоров, разбегаются в разные стороны. За опустевшей дорогой, в чёрном скворечнике на тонком серебристом стволе появился зелёный человечек, широко шагнул, но застыл на месте. Может ногу потянул. Мы пошли к нему на помощь, вдоль ряда застывших, но рычащих автомобилей, глядящих слепыми от света дня глазами фар.
Сумасшедший за рулём. Автомобиль вонзается в толпу, выдавливает людей в смерть. Меня вряд ли задавит убийца, я иду в середине толпы. Подленькая мысль. Если умру, а предсмертные предложения узнает возможный вполне исследователь меня, то сможет написать: «Какой человек! Он трудился даже на пороге смерти. А подумав о чём мы думаем часто и спокойно, он корит себя за ужасный проступок мысли лишь!»
К чёрту! Сейчас сорвётся машина. Собьёт меня. Ненавижу думать о неожиданной и реальной возможности смерти. Завизжали тормоза.
Встал под упавший столб тени.
Придавило тенью столба.
Предзнаменование?!
С шипением складывается троллейбусная дверь. Снова ничего не написал. Страх смерти в любую секунду. Я заперт четырьмя дверьми от неудачи, дремлющей в комнате. Дверь комнаты, дверь квартиры, две подъездных двери, складные створки троллейбуса – пять. Голова болит напряжением мысли. Кажется, схожу с ума. Варваром совершаю ритуалы. Невозможно тяжело, когда в голове борются за выживание мысли. Я считаю двери, боюсь, что потерял дар, опровергаю смертоносные знамения, презираю трусость, заставляю задуматься над рассказом, а сквозь хаос пробивается, полная ужаса, словно холодная металлическая игла шприца, входит в мозг, висок зудит ощущением, игла протыкает тонкую кость, – мысль, что здесь, в салоне, прячется больной человек, который хочет убить, всё равно кого, и ему попадусь я. Поворачиваю подбородок за спину; по глазам пробегают окна, сиденья, спины людей.
Вот это рожа! Крупная голова, оттопыренные уши, от которых треугольником к острому подбородку сужается челюсть. Короткие тёмно-русые волосы, словно маленькая шерстяная шапочка. Перед ушами прилипло по тонкой сопельке волос. Затравленный взгляд ищет нечто, что украли. Большие чёрные зрачки, как круглые камни, в тонкой малахитовой оправе. Сросшиеся на переносице русые брови, летит птица, расправив крылья. Длинный острый нос с видным профилем хрящей, похожий на сучок ветки, росшей вниз. Изображение вздрогнуло от испуга, когда взвизгнув пилой, залив кровью, по лицу пронеслась алая машина. Зубья пилы разрезают кости, взлетают клочья, разлетается моё, секунду назад живое лицо. Не думать, не думать.
Какая мерзость.
А вдруг сбудется?
Или погибну под автомобилем? БПБУМ, приглушённый телом удар. Биограф, узнав мой страх на переходе, узнав как отражённо промчалась машина, узрит провидца. «Скрытое от людских взоров ему открывалось в образах». А я смеюсь над глупым совпадением.
И ужасно боюсь так смело думать! И верю в возможность предсказания. Но думаю через страх: и оттого, что не до конца верю, и оттого, что не могу не думать, и оттого, что писать обязан.
Думаю!
Гнилая грязная нить рвётся при каждом движении. Не думаю, а вяло тянусь за жизнью мыслью. Хлопают складные створки.
Запер за дверями безделье! Надо открыть в своём доме пять тысяч дверей, чтоб найти безделье и запереть в чулан. Несу пухлый серый мешок, раскрываю низкую дверцу в темноту каморки; световой полосой освещает чулан дневной свет; от притолоки к полу горкой опускается потолок. Чулан пустой, с серым бетонным полом и грязно-бежевыми кирпичными стенами. Я швыряю мешок. Он скользит по полу и упирается в стену. Всё упирается в стену!
Глупый замысел о несчастной дурнушке.
Какие мерзкие люди. Неужели трудно мыться, душиться?
В чулане пропустил остановку. Варвар, дикий варвар в городе.
Вот разговорчивый пример уродства. Красивая пышнотелая женщина с пустыми глазами, как потухшими белыми фарами, узким горлышком, гордо поднятой головой, – пустая бутылка с разбитым дном, где жалкие остатки от жизни по стенам души.
Первобытно-болотное представление о душе как о сущности в некой форме, с детства со словами поселившееся в сознании.
Кажется вот, подумай о толстухе, присмотрись к ней. Наблюдай жизнь. Замечай нарочно, чтобы в будущем подчиняться наблюдательности. Что-то похожее было у Чехова. Но нет, мы спешим, у нас нет времени остановиться. Мысль скачет блохой без цели и пользы.
Старуха с клюкой и сумкой в левой руке. Ругает правительство и дрожащий троллейбусный пол трибуна на митинге. Неужели не понимает, как мешает? С ненавистью кричит, вокруг видит виноватых, считает себя умной, объясняет, кто страну разорил, а говорит лозунгами требованиями обвинениями. А если сбудутся её желания? Успокоится и уже по привычке, как упражнения утренней зарядки, будет выдавать две-три фразы. Нет, найдёт новых гадов.
Как невозможно орёт!
Но я не посмею и слова сказать.
Чёрт побери, почти не знакомый район. Вылез! Волосы мягкие, но уже кажется длинные, надо подстричься. Пока не буду стричься. Нет, постригусь назло приметам! У старухи был жест. Она вкручивала левую руку с сумкой, словно шуруп вворачивала, в тяжёлый воздух над собой.
Пустая улица. Редкие машины проносятся мимо. Запомнить, как быстро возникает чувство одиночества.
Крохотный розовый домик с остроконечной крышей фасада между развернувшимися вдоль улицы бежевыми зданиями, как карлик отец между громадными сыновьями. В прицельную планку я вижу фасад следующего дома, весь в веснушках солнечных окон и прыщах балконов. Я покачиваюсь из стороны в сторону, и между двумя стенами то появляются, то исчезают новые ряды окон. Хорошо никого нет. А вдруг кто—нибудь сейчас появится? Страх очищает грудь.
Троллейбус! Синяя рогатая гусеница. Приползла успокоить меня. Мне подарили подарок. Женщина водитель с пышной шевелюрой, вьющейся как у белого барашка, удивилась моей улыбке. Наверно очень глупо. Ну и пусть! Хорошо троллейбус почти пустой. Троллейбус вздрогнул, закрывая двери, дёрнулся, качнув меня вперёд, и отъехал. Как-то неуклюже мило.
Гришков, ты выходишь? Гришков, Грешков. Мелкоподлый человек.
Фамилия во второй готовый рассказ. Удача! Набухает влагой сухая губка.
– Я тоже хорошо вчера наелся. Бабушка сделала луковый салат.
– Бррр. – От соседа к окну отвернулся белобрысый затылок. – Не люблю луковый.
– Она дольками нарезала. Вкусны-ы-ый!
Седой, похожий на луковицу репчатого лука пучок на затылке. От блестящей влажной луковицы, водянисто-жёлтого цвета, простроченной золотыми нитями, отваливаются плоские колёсики. Рядом, худая и высокая её дочь. Она режет помидоры.
– Ты что, плачешь?
– Нет, мама, что ты? – Она улыбается, по щекам стекают слёзы. – Лук глаза, щиплет. Всё хорошо. Левой ладонью, подушечкой большого пальца стирает слёзы. Наклоняется, режет помидор пополам, сжимает двумя пальцами, режет на четвертинки. Отнимает руку, помидор распадается, четыре красных кораблика покачиваются на лёгкой зыби. Она вспоминает, как кричал муж, с не выбритой синевой до глаз на красном лице: «Нет тебе никакого дела где был. Ходил гулял по улицам. Не ори! Не ори я сказал. Я хозяин в доме. Ты не имеешь права орать. Я не обязан отчитываться перед такой ненормальной как ты, если муж пришёл позже. Всё вынюхиваешь, высматриваешь, шизофреничка психованная!», – и на его толстых губах вспыхивали и гасли пузырьки пены яростного прибоя. Её мать отняла руку от луковицы, заложила за затылок, потрогала седую луковицу волос. Она внимательно посмотрела на дочь. Она сомневается в луковых слезах дочери. Ох, это же гастроном, сейчас выходить.
Отчего необходимо подтолкнуть меня в спину в пустом троллейбусе?
Луковые слёзы плохо. Вспоминается Оле Лукое, который и не помню откуда. И не бывает луковых слёз. Есть слёзы от лука. Кажется, момент серьёзный в возможном рассказе. Изменив, его можно сделать кульминацией возможных читательских чувств. Подталкивая читателя к вершине, разработчик маршрута должен обеспечить достижение цели. Проводник обязан избежать обвала иных чувств, которые сметут проложенный путь. Полускрытые смыслы прекрасны и опасны. Для лукавого ума луковые слёзы размером с луковицу. Текст часто читается иначе, чем мечталось. Сметану, кажется, просила. Сначала додумать. О чём думал? Надо купить и молоко. Нет! Текст, Текст! От любого препятствия волнуюсь, как от самой азартной игры. Не отвлекаться! Приказы отсылаются в сознание, но не всегда доставляются, часто не исполняются. Надоело. Какая же последняя, последняя мысль? Чок, чок – щёлкали кассовые аппараты. Иначе – моё словечко. Ч возникло само. Не от того, что подсознание доработало за меня, отчеканив в звучных сочетаниях звуки касс, а потому что думал словами с «Ч». Действует выработанная годами привычка, когда-то давно настроенная, сочленять слова в тексте не только по смыслу, но и по звуку. Мысль о звуке «Ч» родилась после сочетания в одном предложении по ясному, но скрытому за тучами, обряду шипящих, в первую очередь чету «Ч». Если бы записывал, то не писал бы «в первую очередь», (словно стреляют, словно в магазине очередь), искал бы иное сочетание. Поезд разогнался, промчался и встал в тупике. ТуПИК. Тупик бывает на железной дороге, где заканчиваются рельсы. Сметана. Молоко и кажется творог. Вино. Взять бутылку, цветы и неожиданно с праздником приехать к Лене. Мгновение радости, душа мысли вошла в душу.
Не поеду, хотя всё равно не верю в возможность высшей власти. Чиркая подошвами, прошёл через площадку мимо кассы. Кассирша встречает взглядом, смотрит на покупки, считает, мельком смотрит, получая деньги, и, если я ей интересен, замечает снова, возвращая сдачу.
Запишу Грешкова и «тупик». Почерк корявый. Поезд разогнался, промчался и встал в тупике. Перечитывая, прочту вместо тупик туман. Смысл, – остановка, – остался, а видимая связь творения – разрушена. Остались развалины арок римского акведука, железнодорожного моста.
Прохожу дом через полукруглую арку в стене, широкую, низкую, словно для плоского жука. В конце узкого переулка в бледно-розовой тупиковой стене темнеет нора. Справа кирпичный забор густо поросший травой, украшенный на гребне плюмажем куста. Жёлтый куб стеснил переулок до асфальтовой тропы. Узкое горло пропихнуло меня в желудок переулка. Здесь глухая стена жёлтого дома тянется вглубь двора, от неё начинается более высокая, вровень с зелёной крышей, набухшей норкой чердака, ограда, закрашенная жёлтой краской. Из ограды в переулок выступает белый трехэтажный дом с бордовой крышей, от макушки к углам расходятся грани невозможно широкого кола. Над этой крышей толпа развёрнутых стен, оледенели ряды бегущих вверх блестящих жуков, замёрзла золотая капля в голубом небе.
Я оглядываюсь, сумка плоско ударяет в ногу.
Чудо, подарок, дар, чудо! Противоположная сторона переулка в один длинный розовый дом. Восемь подъездов, коричневые двери отворили темноту внутренностей. Девять или десять стежков сплошных окон на розовой стене. Розовая стена освещена солнцем, но ниже, тремя зубцами, её атакуют тени.
Осадные орудия придвигают к стене, кое-где осадные башни подошли почти вплотную. Из боковых ворот вот-вот вырвутся легионеры в круглых шлемах, с орехами на макушках, прикрываясь овальными щитами, держа в руках короткие мечи. Из окон льют смолу, бросают бочки. С закопченных в дыму осадных башен в крепость летят по плавным дугам траекторий громадные камни из катапульт, проламывая стены, выбивая облака розовой пыли.
Пустынный переулок в один дом, а над ним чистое голубое небо. Словно щель в другой мир. Какой-то символ моей приниженности перед красотой.
Этот дворовый переулок может быть метафорой моей жизни. Здесь живу, изучаю соседние дома, иногда выхожу из переулка в мир.
Я переулок, сквозь меня проходят люди, приходят в гости, живут во мне, уходят, оставляя следы.
Небесная щель; сочится дорожка, её изгибают стены, пока не сжирают арки.
Белые блики солнца в окнах дома.
Ночью в тёмной арке невидимая в тени тень сбивает с ног, звонко ударяет голова об асфальт.
Бреду по тротуару вдоль домов, в бреду несутся машины, на мгновение скрывая подножье древесного ствола за чёрной ажурной оградой бульвара. Машина может вырваться на волю, с дороги на тротуар.
Жёлтые, серые, голубые дома примерно одного роста, в два-три этажа. Бульвар спускается под уклон.
Дома спускаются вниз как ступени. Дома как террасы по склону холма, спускаются к круглой площади. Нужно чтоб образ возник. По крышам домов, как по ступеням сойду к озеру асфальта.
Круглый аквамарин озера в изумрудной оправе леса. У берега, в воде, на сваях опаловый домик купальни, с парадной лестницей в воду. Знаю, отчего увидел купальню. Нечто похожее, но с узкой лесенкой мы с Леной видели в фильме по классическому рассказу. Тогда представил, как граф откажется сходить по узкой лестнице, закажет широкую, как парадная к его жёлтому дому с белыми колоннами. Без перил подняться невозможно, голый граф будет хвататься руками за верхние ступени, скользя ступнями на глинистых нижних, белой толстой личинкой поползёт к слугам. Или заставит голоногих девок отчищать от слизи мрамор.
Алексей сказал, его строил пьяный архитектор. Двухэтажный смешанной серо-голубой краски дом, в высоких окнах застыли шторы цвета светлой полосы на арбузе. Дом не стоит на площадке фундамента, дом съезжает по бульвару, как лыжа по склону; зелёная кровля тянется параллельно тротуару, отчего ступенями спускаются окна. Каждое окно в каменной раме ниже предыдущего.
Ох, боже мой, что же на той стороне!
Словно в грудь ударили.
Никто мне не сказал. За несколько веков дома на бульваре выросли в один рост. Ярко-жёлтая игрушка городской усадьбы прошлого века. Пять высоких окон на втором этаже разделены белыми коринфскими колоннами, поддерживающими жёлтый треугольник фасада крыши. Колонны восковыми свечами светятся сквозь голые ветви деревьев. А рядом, из обломков костей мёртвого дома вырастает восьмиэтажная громадина; параллельными рядами, прошитыми снизу-вверх жёлтыми сосудами, поднимаются по серой стене леса, по которым бродят муравьи в оранжевых робах. Дом растёт, с каждым днём превращаясь в тупого переростка-третьегодника среди милых малышей второго класса. Надо быть варваром, законченным негодяем, диким человеком, чтобы рушить пейзаж. Настоящее варварство хранить дома, где когда-то был Пушкин, и рушить, где он не успел побывать. Разрушать один за другим дома, значит разбирать по кирпичикам кладку эпохи, что ещё живёт в нашем времени, легко оживляемая знанием и фантазией.
Написать что-нибудь, где сделать фотографию моего города. Сфотографировать жизнь кадрами страниц.
Всё же удивительно знать, что Москвы, какая она сейчас, через несколько лет не будет совсем. Исчезнет романтическая ветхость старинных домов, исчезнут сонные переулки, заброшенные парки. Всё будет в светящихся объявлениях, предложениях. Будет больше людей, машин, магазинов, кафе.
Отвалилась серая скорлупа асфальта; красный белок кладки, белый желток фундамента. Лучше серая скорлупа асфальта и белок фундамента.
Вниз по тротуару стекает влажный след отжившего ручья!
Кажется обычная фраза. Даже не стану её записывать в записную книжку, но огромен восторг озарения! Бросило в жар от неожиданности прозрения, подсмотренной обыденности. Словно раскрылись уже раскрытые глаза.
Вдоль голубой стены дома примёрзли голубые капельки капели краски.
Разноцветные вывески на стенах.
Ряд фонарных столбов по тротуару на прямой улице. Внизу столб как чугунный вулкан, как перевёрнутая гроздь чёрного винограда, из вершины торчит воронёный шест. На дорогу как штандарты прикреплённые вдоль тел столбов, свисают пёстрые рекламные вывески. Узки вытянутые лица, остры треугольные подбородки, шелушится белая, желтая, красная кожа. Лица вытянулись от креплёных вин.
Как вспотевшая лошадь потом, тёплым бензином вороная пахнет машина.
В двух ступенях от земли салатовый лист железной двери, в радуге перемигиваются буквы «Фейерверки и ракеты». Ты.
«Вступай».
Внесу пай и тогда её увижу.
План города. Да!
ОграДа!
«СвобоДа»!
Девушка опрашивает прохожих. Обойду, не хочу ни на что отвечать. Добрый день. Добрый. Можно задать вам несколько вопросов? Я спешу. Это не займёт много времени. Хорошо. Скажите, вы интересуетесь современной литературой? Почти нет. Но современных авторов читаете? Иногда случается. Кого например? Знакомы ли вам имена… По телевизору показывают моё награждение литературной премией. Во вспышках фотоаппаратов благодарю за оказанную честь. Держусь спокойно. Чуть взволнован. Она кричит родителям: «Его недавно опрашивала. Сказал, что мало интересуется современной литературой, а оказался писателем. О нём же его же спросила, а он говорит, что не очень нравится этот писатель. Это он о себе говорил, понимаете?» Если не успела забыть, значит скоро получу премию. Однако, свободной фантазией представленное будущее по сценарию никогда не развивается. Но будущее можно реставрировать мыслью по прошлым моделям. Примерно такой человек не сможет сам поступить на эту работу. А примерно такой получит. Не потому что не подойдёт, а потому что примерно такие люди такой работой не занимаются. В словах проступают черты судьбы, в которую больше не верю, чем верю.
Но верю слову Пастернака не предсказывать свою судьбу в своих произведениях (но гложет страх случайного совпадения). Всегда оставляю, созданный страхом, непроходимый провал между собой и героем. Впрочем, и рассказ требует: мне не воплотиться в одном персонаже, кроме того, списывая с себя, записываю лишние подробности, а выплавляя героя из жизни, фантазии и себя, точнее создаю человека.
Скучные мысли. Важно только наблюдение: творчество не погибло во мне, – в безделье оно возрождается.
Скучно. Не важно, что скучные мысли, важно, что мыслю скучным языком. Составляю не чёткие и сухие, а аморфные предложения. Подслушивал за собой, но не услышал столкновений слов, чётких определений, красочных описаний, стройных мыслей. Появляются беспорядочные громадные предложения. Взорванная гора, вместо чёткого конуса вулкана, где каждый камень поддерживает и поддерживается другими. Исчез ритм предложения, ритм абзаца, ритм текста, сохранилось лишь созвучие звуков; шипят, рычат, жужжат в полёте возле уха стрелы предложений.
Где же прекрасные формы? Первым предложением ввожу читателя в сферу мысли. Большими описываю. Хотя бесконечное суетливое движение изменчивой жизни меняет устоявшиеся приёмы письма, и я составляю ряды коротких фраз, чтобы соответствовать ритмом текста ритму событий. Вставляю короткие предложения, чтобы выделить образ, деталь. Напротив, пишу длинными предложениями, умиротворяя читателя или неторопливо описывая. Являюсь ли сторонником диалектики? Нет. Но рушить свои же стройные построения, упорствовать и почти опровергать, всё же не переходя в пределы новой структуры, является необходимостью.
Кто так бешено орёт? За мной бредёт грязная свора ребят, они ненормально молча и равнодушно рассматривают улицу.
Два милиционера в фуражках с красными околышами и чёрных куртках стоят лицом ко мне; между столбов раскачивается в ошейнике воротника худой подросток. Он дёргает руками, рвётся вперёд, плачет и орёт, сильно, истеричным срывающимся голосом: – Что вам надо, гады? Что вам сделал?
Наверно поймали с наркотиками. Здесь скрыто торгуют таблетками.
Ненавидящий встречный взгляд? Что же вам надо? В чём не прав? Что должен сделать, чтоб на меня не смотрели? Ведь он совсем не знает, что я за человек, я никак его не обидел. Так почему так яростно смотрит на меня?!
Вполне милая пара. Оба средних лет. Высокие худые. У него короткие чёрные волосы, у неё длинные жёлтые. Он в чёрном длинном до пят плаще. Она в красном. Палочками кушают мороженое из белых стаканчиков. Она опускает руку вдоль тела, и случайно на асфальт вываливается пустой стаканчик. Она быстро взглядывает по сторонам, улыбается спутнику. Он улыбается ей, отбрасывает стаканчик, из которого вытекает молочная лужица, наклоняет голову, они целуются, взглянув на меня, она негромко смеётся.
Двое встречных сцепились взглядами, проходят, поворачивая назад головы.
Он как-то восторженно, за себя приниженно взглянул на неё. Проходя мимо, она презрительно ему улыбнулась, оглядела, двинув снизу-вверх головой, от ботинок до макушки, и отвела взгляд. Она подошла и плюнула ему в глаза, она засмеялась и показала на него пальцем, и все кругом засмеялись.
Испитая до худобы женщина с коричневым лицом под вулканом жёлтой шапки. Голубая куртка до пояса с пятнами грязи на локтях, до пят коричневая прямая юбка в мелких оранжевых цветочках. Перед ней стоит Он, в плаще горчичного цвета, синей шерстяной водолазке, вылезшей по горлу из-под распластанных по груди лап воротника, в исполосованных складками тёмно-коричневых брюках, спущенных гармошкой на разбухшие, разваренные чёрные ботинки. Чёрные всклокоченные волосы на голове. Она (жена?) матерно закричала, ударила по лицу наотмашь красной тряпичной сумкой, в которой что-то болталось на дне. Она била его по левой руке, которой Он будто прикрывал лицо от солнца. Она, заметив, что Он прикрывается, ударила его левой ногой, потом ещё и ещё. Но ярость, ярость с которой Она била. Тупая ярость ударов. Я хочу ей также безумно, яростно ответить. Подбежать, заорать в лицо, ударить, повалить на асфальт, бить ногами по лицу, по животу, топтать грудь, испугать её болью и страхом, раздавить человека в извивающегося червяка.
Отчего-то выдумал к ней мужа. В центре Москвы, где кругом милиция, такое почти невозможно. Всё это скрыто. Но и на людной улице, почти везде я чувствую полуфизическую агрессию.
Меня никто не трогает.
Но я её ощущаю!
Неожиданно пустынная улица. Брожу по сонному уездному городку. Сознание настолько засорено образами искусства, что при виде старинных домов возникает провинциальный город, с мыслями о провинциальном городе прорастают семена впечатлений, удобренные искусством прошлого века. Вот отчего город уездный, хоть десятки лет в стране районное деление. Догадка подтверждается тем, что вслед за словом, в голове прокатывается вал из картин художников, фраз поэтов, образов рассказов. Изучать укрытый мир души необходимо. Если я аппарат творчества, то необходимо изучать таинственные шестерни, что осуществляют полускрытую, иногда невидимую работу. Только невидимой работой смогу объяснить появление эпитета уездный или создание первого рассказа. Рассказали об изнасиловании. Рассказ был прост и ясен, события настолько мерзки, что поражённый, я на несколько минут потерял своё сознание. Я переживал ужас, и, не желая того, оживлял слова. Прошли минуты, я вернулся в общий разговор. Через двадцать минут был дома, через сорок за столом. Во многие из этих минут рождались мысли о девушке, о том как её насиловали, о жизни в городе, вспоминались страшные слова, ёмко отразившие жизнь. Затем, в несколько часов я написал рассказ. Долгая работа сознания прошла почти незаметно. Показалось, что её вовсе не было; кто-то надиктовал мне текст, или я вспомнил его.