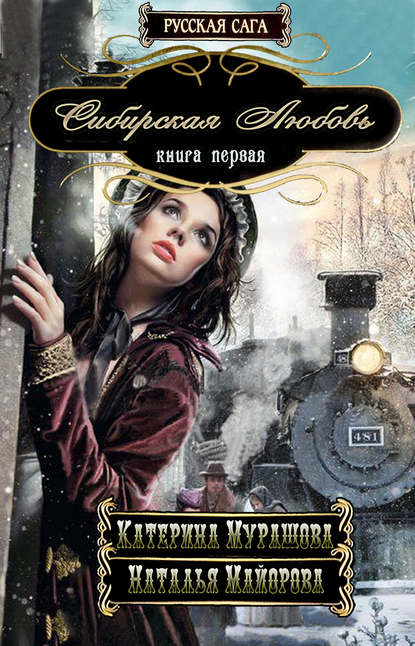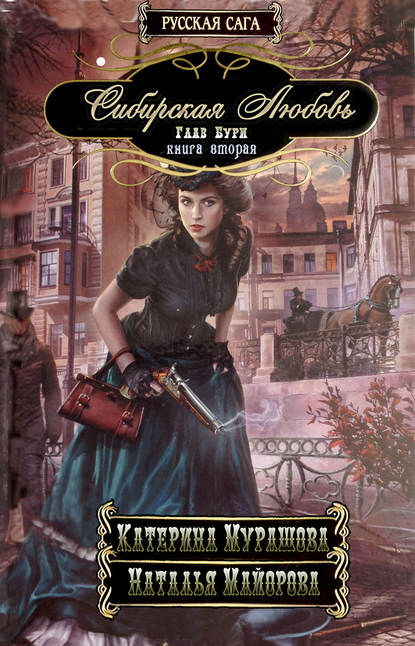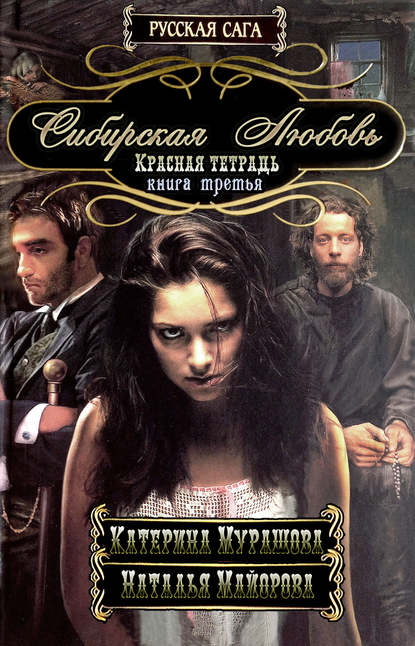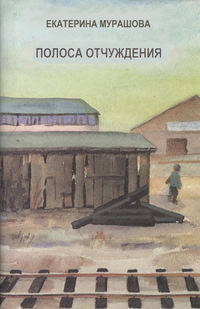Полная версия
Наваждение
– Это вы зря. Дети – наша ахиллесова пята. Ну, уж коль не убереглись, заимели – так хоть в Тюмени бы оставили…
Грушенька передернула плечами, но возражать не стала, с этими одержимыми спорить – себе дороже, только подумала торопливо: мой Гриша не такой, не такой! И дальше разговор вертелся вокруг трудностей пути, мерзавцев-чиновников, которых легче застрелить, чем выправить у них нужную бумагу, а главное – мужниных великих подвигов и жертв, кои грядущими поколениями непременно будут оценены и воспеты. На все эти темы Надюша высказывалась одинаковой обыденной скороговоркой, походя употребляя столько трескучих иноземных слов, что у Грушеньки, хоть она и прошла Гришину школу, моментально разболелись зубы.
– Кругом первобытная тайга, царь и бог – полицейский пристав, и в соседях одни чернопередельцы. А Володечка уже с ними все решил, вы ведь его блестящую статью о ложных друзьях народа, конечно, читали? Для него они уже неактуальны, ergo, скучны. Скука – первый враг мыслящего человека! Плюс – артрит, еще с тюрьмы, и морозы совершенно противопоказаны. Как вы полагаете, польза изделий из собачьей шерсти не преувеличена? Я везу…
Она демонстрировала изделия из собачьей шерсти – носки, шарфы, варежки, – Грушенька их разглядывала, озабоченно думая: Грише ведь тоже нельзя на морозе. Он такой, чуть ветерок, и простужается. Надо б и ему… Это с каких же собак такая пряжа выходит? Неужто с простых дворняжек?
– Именно, – энергично кивала Надюша, с силой втыкая шпильки в косу, скрученную тугим узлом, – я вам, если хотите, изложу технологию. Конечно, это едва ли панацея. Но мы должны использовать любые средства, чтобы помочь товарищам!
Товарищ, сообразила Грушенька, это муж. Вот интересно – она низко склонила голову, пряча смешок, – ночами-то они тоже всё только о революции? А что: с ней Гриша так и пытался, пока она его не окоротила. Да и теперь иногда…
…Теперь он не разговаривал с ней ни о революции, ни о чем другом. В последнее время завел новую привычку: уходить из дому и по целым дням бродить неведомо где. Сперва-то Грушенька обрадовалась: никак, ожил! – но скоро стало ясно, что хожденья эти не к добру, и как бы он не забрел туда, откуда вовсе не выбраться!
И пусть бы забрел, подумала она, со злостью стискивая зубы. Пусть бы его в тайге медведи сожрали… Взгляд тотчас метнулся к углу, к иконе за вышитыми полотенцами: прости, Господи, грех, грех! Надюша, та бы ни за что… Да ну ее, Надюшу! У нее благоверный, небось, так не мается! Статейки сочиняет одну за одной, а если куда идет, так на охоту, с собаками, с которых она потом шерсть вычесывает. Бодрый, румяный, песни поет, как мужичка увидит – непременно остановится, пошутит, поговорит о жизни. А этот?! Какого ж черта, ежели такой нежный, полез в революцию?
И от Софьи, как назло, – ни словечка. Зря ей писала. Небось, подумала, что она, Грушенька, просто избавиться хочет…
Если б его в тайге медведи сожрали, она бы ни минуты здесь не осталась! А что? Птица вольная – честная вдова! Людочку в охапку и…
– Гриша, ты хоть пальто сними. Течет же с него, весь пол мокрый. И застудишься… Да ты меня слышишь?
– Что?..
Поднял голову, посмотрел – не на Грушеньку, непонятно, куда. Глаза больные-больные. Ей сразу стало его жалко, она сказала себе: это по привычке. Он-то меня не жалеет. Сгинь мы с Людочкой – заметит ли? Разве что молока будет некому подать.
– Снимай, говорю, пальто, а я сейчас молока согрею. Чай, не лето! Да и лето-то здесь…
– А! Да, – он послушно кивнул, стаскивая пальто. В тесном углу ему было неудобно, но он и не подумал даже привстать. Смахнул рукавом кружку со стола, Людочка, услышав звон, начала плакать в голос. Грушенька резко обернулась:
– Замолчи! Замолчи, сказала!..
– Ты почему кричишь?
Она воззрилась на него с удивлением. Он, моргая, тер лоб, словно его разбудили среди ночи.
– Я кричу? Да я бы так рявкнула! Так бы завопила, кабы знать, что ты от этого опомнишься! Да куда тебе!..
Он поморщился от ее громкого голоса и оттого, что приходилось слишком активно двигаться, избавляясь от пальто. Грушенька больно прикусила губу, глядя, как блики печного огня играют на его втянутых скулах. Красив… да: и теперь красив, разве что волосы уже не пышным крылом – обвисли, и не потому, что дождь, они у него теперь всегда так. Ну, и что ей с этого принца? Ни дворца, ни венца, ни алого цветочка.
– Это все сестра твоя, она виновата, – ее тихий голос утонул в Людочкином плаче. Да она и не рассчитывала, что он услышит.
– Моя… сестра? Софи? Почему?
Удивительно: услышал и, кажется, даже заинтересовался! Грушенька быстро подошла к сундуку, отбросила пестрое одеяло и, подхватив ребенка на руки, стала расхаживать по комнате, укачивая, вернее – встряхивая монотонно и зло.
– Хватит реветь, говорю, спи! Ну, что мама, что мама? Нет здесь пауков! Один наш папенька есть – хуже паука!.. Чем виновата, спрашиваешь? Да вот этой самой своей проклятой книжкой про сибирскую любовь! Про Машку хроменькую! Я прочитала, дура, разнюнилась – а тут и тебя увидела, и все, полетела душа в рай!
– Грушенька, ты не могла бы кричать потише?
– А тебе чем не нравится? Головка болит? Иль голосок мой не флейтой? Так он у меня всегда такой был, ты ж про меня все знаешь!
Он встал, держа пальто за воротник, растерянно и неприязненно оглядел комнату, ища, куда б его пристроить. С Грушенькой он явно не собирался больше разговаривать. Господи, отчаянно подумала она, до чего ж я ему в тягость. Как же он жалеет, небось, что поднял меня, гулящую, из грязи, возвысил, имя свое дал! На что ему жена такая? Да и вообще, любая жена ему на что?
А мне-то он…
– Кабы не ты, я бы разве тут сейчас была? Скопила бы денег. Мастерскую бы открыла швейную. Нашла бы человека хорошего, вон, как Дашка… Жила бы сейчас! Ребеночек уж конечно не такой бы чахлый уродился! Ну! Куда ты меня загнал со своим благородством и своей революцией?!
Она топнула ногой. Людочка от страха перестала реветь, вцепилась в ее платье.
Гриша не ответил. Ей казалось, он вообще не слишком понял, о чем она – и хочет одного: чтобы его наконец оставили в покое.
Глава 5
В которой кричит попугай, а Софи Домогатская читает первое из полученных ею писем и вспоминает о прошлом
Софи, двигаясь все еще слегка машинально, так, словно все ее члены недавно замерзали до почти неподвижного состояния, ушла куда-то вглубь дома. Видимо, отправилась распорядиться и проследить за тем, как устроят Джонни.
Мария Симеоновна перевела острый, испытующий взгляд на сына.
– Ты хочешь что-то сказать, – утвердила она. – Что ж молчишь?
– Мне кажется… – Петр Николаевич облизнулся и в задумчивости прикусил кончики пшеничных, ухоженных усов. – Мне кажется, что вы, маман, поступили несколько опрометчиво, когда едва ли не одобрили всю эту затею и фактически благословили Софи на ее развитие и продолжение…
– Ты имеешь в виду этого несчастного ребенка? Но Софи уверяла нас, что он не опасен для детей и прислуги. Это не так? Ты что-то знаешь?
– Нет, я имею в виду не Джонни. Речь идет об этом наследстве… Я твердо полагаю, что Софи должна как можно скорее отказаться от него!
– А что с ним? – еще оживилась Мария Симеоновна. – На нем какие-то долги? Ты уже узнавал? Ловко, не ожидала от тебя… Особняк заложен? В бумагах какая-то путаница? Но, может быть, с нашей помощью Софи еще удастся все поправить? Отказаться от наследства – самое простое, и это никогда не поздно. Сначала, мне кажется, нужно попытаться во всем доподлинно разобраться, посоветоваться со знающими людьми… Вы согласны со мной, Кирилл Андреевич? – Марья Симеоновна оборотилась к гостю-старичку, который поспешно закивал.
– Именно разобраться, Марья Симеоновна. Непременно разобраться… Со знающими…
– Мама, вы не даете мне слова вставить! – раздраженно сказал Петя. – Этот особняк не заложен, на нем нет долгов. Нотариус, который к нам приходил, специально это подчеркивал. И все бумаги, насколько я понимаю, в полном порядке. Дело в том, что он…
– Так что же – он? – нетерпеливо воскликнула Мария Симеоновна. – Ты можешь, наконец, говорить без предисловий?!
– В этом особняке расположен публичный дом. И умершая «подруга» Софи была его хозяйкой.
– Оп-па! – маленькие, выцветшие глаза Кирилла Андреевича забавно округлились, сделавшись похожими на обтянутые ситцем пуговички на девичьем платье.
– Публичный дом? – несколько озадаченно повторила Мария Симеоновна. – Как это так?
– Официально там расположен гадательный салон. Но все всё, естественно, знают. Салон старый, довольно высокого, должен тебе сказать, уровня. С восточным уклоном. И посетители там бывали весьма значительного ранга… В том числе и из высшего света, я хотел сказать… Теперь ты понимаешь, почему Софи должна отказаться немедленно?! Ты только представь, что кто-нибудь из наших знакомых услышит о том, что Софья Павловна Безбородко получила в наследство публичный дом!.. Кирилл Андреевич, я надеюсь, что вы…
– Разумеется, разумеется, Петя, голубчик! Как вы могли подумать! – Кирилл Андреевич закрыл рот обеими ладошками, показывая тем самым, как окончательно его молчание, но потом раздвинул тоненькие пальчики и одновременно лукаво подмигнул Петру Николаевичу. – Софьи Павловны тут нет, так что… осмелюсь спросить: а вы сами-то бывали в том заведении?
– Тьфу! – едва ли не подпрыгнул Петя. – Нет, конечно! Маман! Что ж вы молчите?!
– Я думаю, – резонно отозвалась Мария Симеоновна. – То, что ты сказал, это, конечно, все усложняет… Но если сам особняк свободен от долгов и не заложен, то что нам мешает принять наследство и оборудовать в нем что-то другое?
– Мама! Что ты говоришь?! Моя жена будет заниматься переоборудованием публичного дома?! Ходить по этим лестницам, гостиным, спальням и ванным комнатам? Давать расчет девицам?!
– Ну, она совершенно не обязана заниматься этим сама…
– Это должен сделать я? Какое-то выбранное нами доверенное лицо? Ты только представь себе слухи, которые опять поползут в обществе… Господи, только-только все утихло! Нет, она должна немедленно отказаться! Пока никто не узнал…
– Дорогой мой! – решительно сказала Мария Симеоновна, отталкиваясь от подлокотников и поднимаясь с кресла. – Когда десять лет назад ты решился сделать предложение беременной Софи Домогатской, наплевав на всю ее предыдущую историю, внимание всех сплетников Петербурга было направлено на нашу семью. Я пережила это, хотя и порадовалась про себя, что твой отец уже в могиле и не видит всего этого безобразия. Знаешь, я, может быть, никогда из воспитания тебе этого не говорила, но в тот момент я даже испытала к тебе род уважения. Это был все-таки поступок, что ни говори. Но, голубчик, решившись жениться на ней, ты ведь не мог же не догадываться о том, что Софи вовсе не изменится, обойдя с тобой вокруг аналоя. Она осталась все той же Софи Домогатской (и не случайно все свои романы она публикует именно под этой, девичьей фамилией). Ты до сих пор удивляешься этому? Что ж, тогда ты глупее, чем я полагала. Мне казалось, что именно неистовая жизненная сила Софи, ее невозможность вписаться ни в какие предписанные ей рамки и привлекла тебя когда-то, заставила сделать единственный за всю твою жизнь решительный шаг… И, коли все так сложилось, я не собираюсь делать это свалившееся на Софи наследство выморочным и дарить его российскому государству. Если ты отказываешься, а Софи позволит, я сама займусь им. Я уже слишком стара, и моему доброму имени в любом случае ничего не угрожает. Я быстро превращу этот особняк в конфетку. Вы еще будете устраивать там приемы… А если Софи не захочет, его можно привести в порядок и продать, и тогда мы сможем, наконец, купить Красные покосы и кусок Марьиного леса, и построить там дачи, как я давно собиралась. Там с холма открывается прекрасный вид… Дачи мы станем сдавать в аренду…
– Мама! Остановись! Одумайся! Что ты говоришь?!
Но Марию Симеоновну уже понесло. Она увидела для себя новое поле деятельности, и не могла и не хотела останавливаться. Все в усадьбе Люблино было давно налажено и работало как часы. Всякие сельскохозяйственные усовершенствования, которые Мария Симеоновна время от времени отыскивала в газетах и специальных каталогах, покупала и немедленно вводила в своем хозяйстве, не могли полностью занять ее все еще крайне деятельную натуру.
– В конце концов, мне всегда нравился восточный стиль! – словно вбивая гвоздь, заявила Мария Симеоновна, собираясь уходить.
– Если вам, душечка, понадобится помощник, я всегда готов… – проблеял Кирилл Андреевич. – Право, неловко вам одной… Я мог бы с радостью сопроводить… У меня как раз нынче в делах промежуток. Думал: съезжу-ка в Марии Симеоновне, у нее всегда что-нибудь интересненькое… И вот…
– Что? А? – оборотилась Марья Симеоновна к гостю, про которого, кажется, в пылу дискуссии успела окончательно позабыть. – А-а-а… Поняла! Все поняла! Ах, старый вы греховодник! – раскатисто расхохоталась она.
Кирилл Андреевич потупился и часто замигал пуговичными глазками.
Из кухни донесся странный скрипучий крик. Все присутствующие невольно вздрогнули.
– Что это? – спросила Мария Симеоновна.
– Должно быть, попугай, – подумав, ответил Петя. – Попугай Джонни, про которого говорила Софи. Право, не знаю, кто бы еще в нашем доме мог так кричать.
– А почему он так кричит? – осведомился Кирилл Андреевич. – Ему что-то здесь не нравится?
– Должно быть, так… И я его, знаете ли, понимаю… – сказал Петр Николаевич и, аккуратно обойдя мать, вышел из гостиной.
Января, 20 числа, 1899 г. от Р. Х., Тобольская губерния, Ишимский уезд, г. Егорьевск.
Здравствуйте, драгоценная Софья Павловна!
Пишет Вам Вера Михайлова из Егорьевска. Вместе со мной передают для Вас приветы: Соня, Матвей, Стеша, Леокардия Власьевна и Левонтий Макарович Златовратские, а также Аглая Левонтьевна и Элайджа и Илья Самсоновичи. Желают также удачи во всех Ваших начинаниях.
У нас, слава Господу, все в основном по-прежнему. Снегу в этом году легло много, взрослому человеку по пояс. И рябина с калиной уродились, до сих пор гроздья кое-где висят, птицами нерасклеванные. По народным приметам – к богатому урожаю. Рождественские и новогодние празднества прошли утешно, молодежь гуляла и веселилась, а мы, жизнь прожившие, на них глядючи, радовались. Стеша сама, никем не понуждаемая, смастерила на диво красивого ангела из бумаги, куриных перьев и палочек, который, как за ниточку потянешь, так жезл поднимает и крылышками машет. Все удивлялись, как это у девочки к механике способности. Она все просила его Вам в Петербург послать, чтобы Вашим деткам подарить. Едва уговорила ее, что не доедет до Петербурга – больно хрупок. Аня-Зайчонок, дочь Петра Ивановича, как увидела того ангела, так руками всплеснула и долго ахала, а потом, через два дня привезла сундучок с игрушками, который от старого Тихона и Марфы Парфеновны остался. Стеша теперь от него и на ночь бы не отходила. Я сперва за нож боялась, как бы не порезалась, но Соня с Матвеем сказали: пускай, и, напротив, что помнят, обсказали ей, как Тихон-то игрушки мастерил. Теперь уж она две игрушки, Тихоном недоделанные, собрала: мельничку и кораблик. А на кораблике придумала парус из бересты сделать, а Маня, Сонина сестра, что у нас служит, помогла ей лесенки из ниточек сплести. Прямо как живой кораблик получился.
Матвей училище закончил и надо с ним дальше решать. Думаю о том едва ль не ежечасно. Я Ваше милостивое предложение помню, но боязно мне как-то его в Петербург отпускать, даже под Вашу, Софья Павловна, опеку. Не то, чтоб не смог он учиться, или опасалась, что разбалуется от соблазнов. Ум у него хороший, правильный, может, и не по годам развившийся. А сердце – шелковое, тряпочное. Несправедливости, беды чужой перенесть не может совершенно, видит едва ль не больнее своей. Куда он с такой-то душой попадет? В инженеры, как мне бы хотелось? Или уж прямо со студенческой скамьи да к нам же обратно, на каторгу? Страшно мне его от себя отпускать и ничего поделать с собой не могу. Понимаю: взрослый парень, к материной юбке булавкой не пристегнешь. Насчет того, что Вы писали, чтоб отправить его вместе с Соней, тоже решиться невмочь. Она, конечно, куда осторожнее и в чем-то здравомысленнее его будет. Да только с младенчества и по сей день шума городского и народу боится до обмороков. Даже в Егорьевск ездить не любит. А как-то поехали с ней в Тобольск, на ярмарку, обновки покупать, так она все три дня в гостинице и просидела. Один только раз на ярмарочную площадь и вышла, так и то – Матвей ее едва ли не волоком волок. Как она в Петербурге станет? Не обузой ли всем, и себе ли не в тягость?
И про то думаю неустанно: выросли оба, в тех годах, когда кровь молодая играет. Пара ли они? Или брат и сестра? Кровного родства промежду них нету, это вы знаете, но ведь росли вместе, спали, играли, все друг про друга знают… Любят они друг друга, о том спору нет, но как любят? Как потом обернется? Соня никогда не скажет, но иногда взгляд ее ловлю, будто совета просит. А что мне ей посоветовать, коли у меня у самой судьба из одних узлов связана?
Ходила на все три могилки, просила совета. Все молчат: и Матюша, и Никанор, и Алеша. Видать, сами не знают, как правильно. И то: откуда им-то такое разобрать?
Дела мои идут ни шатко, ни валко. На прииске «Счастливый Хорек», как кузятинские умельцы бочку еще по матюшиным чертежам усовершенствовали, так этот сезон был из лучших – выработка стала до 40 тысяч пудов песка в день доходить. У Гордеевых, мне донесли, – на бутаре до 100 пудов в день на рабочего. Из того и считайте. Зато Марья Ивановна библиотеку на прииске завела, чтоб рабочих от водки отвлечь, и свои книги туда пожертвовала. Не знаю, помогает ли? При случае поинтересуюсь непременно. Думали мы еще с Алешей про электрическую машину, которая от воды работает. Метеоролог наш егорьевский Штольц вместе с Василием Полушкиным ездили нынче осенью на Лену пробы какие-то брать, так после рассказали, что на Павловском прииске уж вторую «электростанцию» построили с динамомашиной и двумя турбинами. Штольц все рисовал что-то, рисовал, я ничего не поняла, но Василий-то, кажется, еще там понял и с большим энтузиазмом мне едва ль не до ночи расписывал, как то здорово и выгодно окажется. Не решила пока ничего, да и куражу особого нет, но Алеше хотелось, и Вася Полушкин подсобить обещал…
Нынче же, на границе осени с зимой вернулся в родные места на побывку Ваня Притыков, Ивана Парфеновича младший сын. Пил-гулял в обоих трактирах с таким шумом-гамом, что даже к нам, в Мариинский, долетало. Угостил и уложил вповалку едва ли не весь Егорьевск. Мне Хайме уж потом рассказывала, когда назад отбыл. Дело у Ивана какое-то на Алтае. Как я поняла, на ногах стоит крепко, и в деньгах не стеснен. Сыновей уж четверо либо пятеро, и все от той вдовы-казачки, что шесть лет назад из Большого Сорокина увез. Мать его просила ее с собой забрать, внуков нянчить, да он отказал. Отчего там промеж них кошка пробежала, не разберешь – чужая душа потемки. Настасью мне, пожалуй, жаль, хоть и сумрачна она была всегда, и в мою сторону только что не плевала. Почто злилась? Должно быть, оттого, что я своих детей без отцов рожала, а себя обиженной не числила… Впрочем, Бог ей судья, не я… А Иван мог бы и милосерднее быть. Вспомнит потом, ан уже и исправить ничего нельзя…
А осенью, накануне Воздвижения Креста Господня, случилось у нас в Егорьевске и еще одно развлечение. Явились к нам англичане. Числом не то двое, не то трое. Сомнения в числе оттого, что в одном из англичан – какая-то неясность наблюдается. Англичан я до того не видала и не слыхала, потому окончательно рассудить не берусь. Но, как я языки слышу, он, этот третий, даже говорит по-английски слегка по-другому, чем те два. Англичанин ли?
Судите сами: зовут его «мистер Сазонофф». Русский язык знает весьма хорошо. В делах наших разбирается изрядно, на тайгу, глубину снега и прочее из природы не дивится, а вроде как даже радуется тому.
И еще одно, пожалуй. Те двое – даже со спины да в шубе чужеродность видна. Двигаются по-другому, встают, садятся, ложку держат. Когда жуют, кажется, что и челюсть у них как-то не по-русски приставлена. Улыбаются враз, внутрь себя и словно не в полную силу. Фигуры линейкой проведены, а после сама она у них внутри для сверки оставлена. Словом, не ошибешься. Не то – «мистер Сазонофф». Когда я его первый раз увидела, у меня аж сердце в ребра ударило и дыхание сперло. Показалось на миг, что это Матюша, Матвей Александрович. Та же медвежатость, движения вроде бы и медленные и даже неуверенные слегка, но – ничего лишнего, и внутри – словно пружина сжата. Обернулся, я, при сдержанности-то моей, что вечно – притча во язытцах, чуть не ахнула. Спустя уж минуту поняла – помстилось, лицо у него не Матюшино, а обыкновенное, просто шрамами изуродовано слегка, оттого и кажется… Впрочем, к тому быстро привыкаешь, и уж не замечаешь ничего. Тем паче, что, в отличие от двух других англичан, лицо-то у мистера, пусть и подпорченное, но все же что-то и выражает и разгадать можно, когда ему в охотку, а когда и нет… А не только я это сходство-то увидела. Многие, из тех, кто постарше… Чудны дела твои, Господи!
Англичане были у нас проездом на Алтай, а чего хотели, так никто толком и не понял. На Алтае у них вроде еще с весны три партии оставлены, чтоб разведку вести. Медь, как я поняла, их интересует, и золото. Но там Кабинетские земли, а у нас ведь – нет. И про золото на Ишиме только Коська Хорек и знал. Где-то он нынче? Жив ли? Соня с Матюшей часто его поминают. Веселил он их, а они его, пожалуй что, и любили. Как сбежал он от страха во время тех беспорядков, что Андрей Андреич утишил, так никто о нем и не слыхал ничего. Сгинул, должно быть, в тайге, да странно… Коське ведь тайга – дом родной, в каждом самоедском стойбище – друзья-приятели, да и время было теплое, даже пьяному не замерзнуть… Пусть Господь милостив к нему будет, кривая у него жизнь, говорят, была, да только мы от него ничего, кроме добра, не видали.
В общем, потолклись у нас англичане, чаю попили, поговорили через мистера Сазонофф о чем не поймешь, и отбыли. Обещали, между тем, на обратном пути опять заглянуть. Зачем такой крюк? Ради чего? Железная дорога от нас далеко. Городок маленький. Путь, не сказать, чтоб приятный. Может, Марья Ивановна чего поняла (они с ней тоже много беседовали)? Что же до меня, то мне показалось, что мистер Сазонофф все хотел меня о чем-то напрямую спросить, да так и не решился. Хотя что ему с меня?
Из общих же разговоров я поняла следующее. Масштабы у них, если по словам судить, немалые. Какие-то важные люди в Англии и в Петербурге заинтересованы в том, чтобы английские деньги в Сибирь привлечь. Это понять можно, у наших-то воротил свободных денег немного. А кредит в Сибирском банке получить сложно, да и не выгодно выходит, если, как у нас принято, только богатые пески в разработку брать, да дедовским способом добычу вести. Вот и послали этих англичан обстановку рассмотреть и своим в Англии доложить. Мистера Сазонофф, понятно, – из тех немногих отыскали, кто в Англии русский язык разумеет и в делах что-то понимает. Судя по обмолвкам его, где он только не побывал… Мне взгрустнулось даже. Слушала и вспомнила вдруг, как Матвей Александрович обещал меня на теплое море свезти…
Двое других-то англичан мистера Сазонофф как-то… ну, не сторонятся, конечно, а словно бы и боятся, и презирают зараз. Нынче не разобрала, отчего это. Может быть, в другой раз разберу. Английский-то их язык я уже к концу начала немного понимать. Мистер Сазонофф, как заметил мой интерес, стал меня учить и называть все, а от двух других мы скрыли. Из озорства, что ли, или еще что-то в этом есть?
В общем, как я уже Вам сказала, в нашей однообразной жизни, англичане – развлечение и пища для слухов. Теперь толки и по Мариинскому поселку, и по Егорьевску. Зачем приезжали? Чего хотели? Что теперь будет? Больше из образованных и служивых волнуются. Рабочим-то все равно, на кого спину гнуть. Наш ли, англичанин – один черт. Я уж прикинула так и эдак. Если они здесь, как и на Алтае, разведку вести будут, или уж действующие прииски от хозяев скупать, как мне поступить?
Жаль, Алеши нет больше, посоветоваться не с кем. Вот ведь как… Вроде и что промеж нас было, однако, так не хватает его теперь! Должно быть, оттого это, что не только ухватистым, но и мудрым человеком Алеша был, видел человека насквозь, да не осуждал, и не злобствовал, и фантазий не строил, а смотрел на него, прищурившись, как он есть: нужен, не нужен, здесь остановиться, или дальше пойти… Мудрости в нашей жизни – как бы не менее всего другого…
Вы уж не серчайте на меня, Софья Павловна, но я ваш запрет нарушила, и, когда Алеша уж совсем плох был, сказала ему про Варвару-то – что, мол, в Петербурге она, и дела у нее все ладятся… Он уж и не ответил ничего, но я-то видела: камень у него с души упал, покатился… Так по Божеским-то законам правильно, я понимаю. А если есть здесь грех какой, так пусть он – на мне. Одним больше, да ради Алеши-то – пустое…