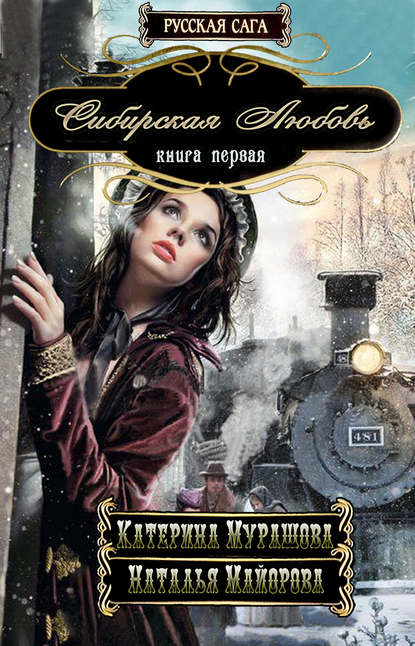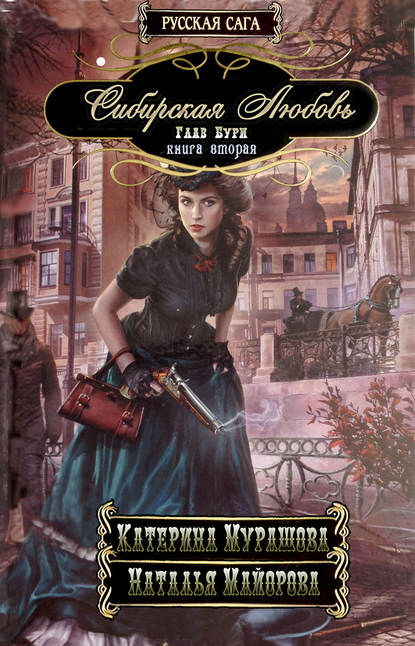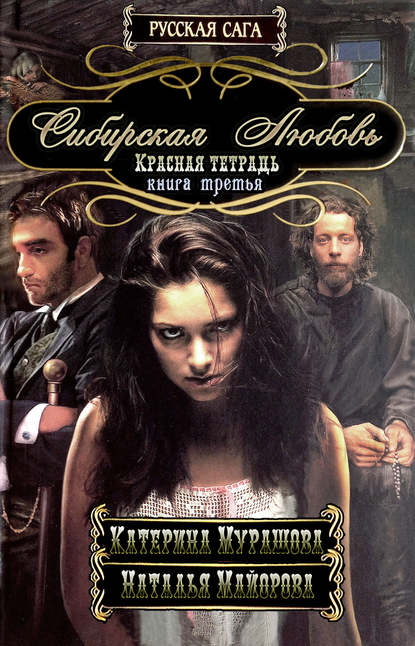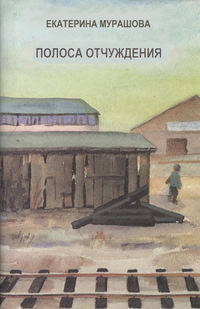Полная версия
Наваждение
– Господи! – прошептал Петр Николаевич, обхватывая голову ладонями. – А отец? У этого Джонни есть отец?
– Нет. Его отец… Его отец был иностранцем. Он уехал из России и… и умер. Так что у Джонни теперь никого нет, кроме меня…
– Софи! Что это значит? Ты и вправду обезумела? Что ты говоришь? Ты хочешь немедленно поехать в публичный дом и забрать оттуда полоумного урода, оставшегося сиротой? А что дальше, позволь узнать?
– А дальше я отвезу его в Люблино, найму ему няньку из тамошних крестьян. И будет жить, сколько проживет. Доктор сказал Саджун, что у Джонни больное сердце, да и вообще эти дети долго не живут. К сожалению.
– К сожалению?! – вскричал Петр Николаевич, окончательно выведенный из себя абсурдностью ситуации.
По сравнению с намерением жены немедленно усыновить слабоумного ребенка, которого он никогда не видел, новость с наследством как-то сама собой отошла на второй план, но никуда при этом не исчезла…
– Софи…
– Я поехала, Пьер. Жди меня здесь. Если можешь, извести Викентьева и второго, нового управляющего с фабрики, что у меня изменились обстоятельства и я уезжаю в Люблино. Хорошо было бы, если б мне удалось переговорить с ними до отъезда… И… не волнуйся. Ничего страшного не произошло… Ты увидишь, несмотря ни на что Джонни вполне можно полюбить. Он очень привязчивый…
– Софи, я еду с тобой! – решительно сказал Петр Николаевич, снова одеваясь. – Ты не поедешь туда одна!
– Очень хорошо, твоя поддержка может мне понадобиться, – Софи, уже одетая, привстала на цыпочки и поцеловала мужа в висок. – Я знала, что ты поймешь. Ты – чудесный. Я обожаю тебя…
– Но что скажет матушка? – спросил Петр Николаевич, когда супруги уже погрузились в стоящую на полозьях карету и прикрыли ноги одной меховой полостью на двоих. – Вряд ли она…
– О, да! – согласилась Софи, улыбнувшись краешком губ. – Мария Симеоновна молчать не станет! Что-то меня ждет…
В просторной гостиной добротного и славно отремонтированного помещичьего дома разыгрывалась хорошо известная немая сцена из гоголевской комедии «Ревизор».
После слов Софи: «Я привезла вам Джонни. Он будет здесь жить.» – все присутствующие молчали как бы уже не пять минут.
В процессе того дородная старуха в темно синем шлафроке медленно опустилась в кресло, однако не бессильно и расслабленно, в глубь и обиженную истому, а присела на краешек, как бы собирая в комок гнев и ярость для последующей атаки.
Высокий, толстый и вообще очень крупный для своих лет мальчик недовольно хмурился. Его малорослая в сравнении с ним и субтильная сестра быстро-быстро моргала круглыми, светлыми глазами.
Петр Николаевич стоял у входа в гостиную с независимым видом, скрестив руки на груди и словно говоря: «А я тут, знаете ли, ну совершенно не при чем!»
Одна из двух присутствующих в комнате служанок растерянно крестилась. Другая держала в руках поднос с напитками. Руки девушки мелко дрожали и фужеры однообразно и раздражающе, как-то по-комариному звенели. Прилизанный лакей пожилого гостя Марии Симеоновны застыл у стола чурбан-чурбаном, да так и стоял, раскрыв рот. Сам гость, стараясь остаться или хоть казаться невозмутимым, набивал трубку.
Софи, струной вытянувшись во весь свой немаленький рост, стояла посреди гостиной, спиной прижимая к себе очень странного (и это мягко сказать!) ребенка. Свои руки она положила мальчику на плечи, и, если бы кто его спросил, он мог бы удостоверить, что руки эти совершенно не дрожат. На обычно подвижном лице Софи застыло безмерно удивляющее всех присутствующих выражение угрюмого и какого-то окончательного покоя.
Ребенок, которого Софи представила домашним как Джонни, выглядел действительно престранно, если не сказать устрашающе. Очень маленького роста (куда меньше младшей его девочки), с короткими ногами и руками, толстым задом и уродливой, сужающейся к темени головой. Рот его был полуоткрыт, как будто бы чрезмерно крупный язык не помещался в нем. Глазки, напротив, были маленькими, узенькими и близко посаженными. Переносица широкая и слегка вдавленная внутрь. Жиденькие каштановые волосики стояли дыбом. Самым, пожалуй, ужасающим оставалось то, что это существо, несмотря на не закрывающийся рот и дрожащие (от ужаса?) губы, явно пыталось мило улыбнуться присутствующим, обнажая плохие зубы.
– Господи, да что же это?! – не выдержала наконец одна из служанок.
– Мама, это дурная шутка, – низким, но звучным голосом сказал мальчик. – Отвези этого урода обратно, туда, где ты его взяла.
– Это не шутка, Павлуша, – произнесла Софи голосом, до странности напоминающим голос сына. – Джонни останется здесь и будет жить с вами.
– Я не хочу! – голос мальчика сорвался. – Мы все не хотим! Бабушка, скажи ей!
– Софи, мне кажется, что это действительно переходит всякие границы. Может быть, ты, наконец, объяснишься? Петя, что происходит? Ты знаешь?
Петр Николаевич пожал плечами, поднял светлые брови и переступил с ноги на ногу. Казалось, еще немного и он примется беззаботно насвистывать. Мария Симеоновна снова перевела тяжелый взгляд на Софи.
– Джонни – сын моей… моей давней подруги, – негромко сказала Софи. – Она скончалась от пневмонии, и у мальчика больше никого в целом свете не осталось. Я решила взять его к себе. Это не благотворительность. Подруга отписала мне все свое имущество.
– Ах, вот как? – Мария Симеоновна взглянула на невестку без прежнего брезгливого недоумения. – И что же она тебе оставила?
– Драгоценности. Ценные бумаги. Небольшой, но прекрасно обставленный и отделанный особнячок почти в самом центре Петербурга, – дипломатично сообщила Софи, не вдаваясь в подробности. Петр Николаевич закатил глаза, но мать больше не глядела в его сторону.
– Что ж, неплохо, неплохо, – еще подумав, согласилась Мария Симеоновна. – За такое наследство можно и приглядеть сиротку, как бы странно он ни смотрелся… А он не опасен, Софи? Не станет бросаться? Не покусает детей, прислугу?
– Джонни совершенно безопасен. Он не любит и опасается мужчин, так как его с младенчества окружали одни женщины, а в целом весьма добродушен и эмоционален. Очень любит животных. Мы привезли с собой его любимого кота и попугая, он никак не соглашался с ними расстаться…
Мария Симеоновна огляделась, а потом зачем-то заглянула под кресло, словно ожидая увидеть там упомянутого кота или даже попугая.
– Кот и попугай пока на кухне. Поскольку они всегда жили вместе, то дружат между собой. Это весьма забавно, вы увидите… Джонни может говорить и многое понимает. Говорить ему слегка мешает язык, но вы скоро научитесь понимать его…
– Но зачем, мама?! – снова заговорил Павлуша. – Я не могу разобрать: зачем нам учиться понимать этого урода? Если уж нельзя иначе, и ему действительно некуда деваться, так давай отдадим его в какую-нибудь крестьянскую семью и станем платить им деньги за уход. Хотя вообще-то… Все это экономически нерационально. Общество тратит средства на их содержание, но не получает ничего взамен. В древней Спарте таких бросали со скалы в пропасть сразу после рождения. И, по-моему, совершенно правильно делали…
– Павлуша! – предупреждающе воскликнула Мария Симеоновна. – Мы живем в цивилизованном обществе.
– А кто же будет решать, драгоценный мой? – старенький гость изумленно поднял редкие брови.
Одна из служанок снова перекрестилась, а другая наконец-то поставила поднос с напитками на стол. Петр Николаевич шагнул к нему, взял бокал и сразу же отпил половину. Гость Марии Симеоновны последовал его примеру.
– В цивилизованном обществе надо назначать специальную комиссию, – авторитетно разъяснил Павлуша. – Чтобы в ней были врачи, кто-то от судейских, просто умные люди…
– Да что ты городишь?! – взорвался Петр Николаевич. – Ты сам-то себя слышишь или нет?! Как умный порядочный человек возьмет на себя право решать: этому жить, а этому не жить?!
– Да, это проблема, – покладисто согласился мальчик. – Очень серьезная. Но ее следует решать, если это ваше цивилизованное общество хочет…
– А Джонни – это по-русски Ваня, да? – неожиданно для всех вступила в разговор младшая сестра Павлуши.
– Да, Милочка, – ответила Софи. – Джон это по-русски – Иван.
Крестильное имя Милочки было Мария (в честь Марии Симеоновны. Небольшой, но вполне успешный подхалимаж со стороны Софи), но все с самого раннего возраста называли ее Милочкой.
Она и вправду была мила – светлое, хрупкое, тоненькое, довольно длинненькое создание, чем-то похожее на выцветшего кузнечика или маленького богомола. Сходство усиливалось тем, что, прося или убеждая в чем-то собеседника, Милочка любила умоляюще складывать у груди длинные, узкие в запястьях ручки (в этих случаях всегда так и хотелось сказать: передние лапки).
Еще Милочка всегда, всех и даже все жалела. Жалела не только обиженного в процессе игры сверстника, умершего старичка-соседа, больную собаку, зарезанного петуха или корову, у которой отобрали теленка, не только воробьев с подбитым крылышком или котенка со сломанной лапкой (все это вместе и врозь было бы совершенно естественным для девочки ее возраста и эмоционального устройства). Объектами ее слезливой и отчаянной жалости могли внезапно и неожиданно для окружавших Милочку людей делаться вещи и вовсе несусветные.
Так, например, однажды, в возрасте около шести лет, она нашла выброшенный в свалку старый норковый палантин, принадлежавший когда-то Марии Симеоновне. После этого он много лет пролежал в сундуке на чердаке и был почти начисто съеден молью. Обнаружив палантин, Милочка некоторое время внимательно смотрела на тускло-серую рухлядь и глаза ее медленно наливались слезами. Потом она внезапно упала на старую, затхлую от пыли вещь и зарыдала, словно мать над трупом только что скончавшегося младенца.
Ничего не понимающая нянька, которая гуляла с ней, попыталась было утешить девочку, но все ее попытки были напрасны. Вскоре над икающей от горя и нервного истощения Милочкой собрались все домашние.
– Что? Что случилось? В чем дело? Кто тебя обидел? Что у тебя болит? – сыпались вопросы.
Девочка не отвечала. Когда все уже почти отчаялись что-нибудь узнать и подумывали послать за доктором, Милочка вдруг взяла себя в руки и заговорила:
– Она… эта шубка… Чтобы ее сделать, убили так много маленьких хорошеньких зверьков. Они жили в своем лесу и любили его темно-зеленый кров, и ручьи, и папоротники, и своих деток… А потом шубка так верно служила вам… грела, когда холодно… в нее прятали ручки, шею, носик… И всем она нравилась, ею восхищались, говорили: Ах, как изящно! А потом она стала старая и немодная, и ее сунули в сундук. А там темно и страшно, и холодно зимой, и никто не приходил… И так много лет… Только моль ее ела, и ей было больно от этого. Вот если бы от вас откусывали вот так, по кусочку, много-много лет… И еще обидно, что с нею так… Ведь она никогда никого не предала, и отдавала свое тепло… А вы ее выброси-или, как будто бы ничего этого не было, и это для вас ничегошеньки не значит…
Собравшиеся над Милочкой взрослые люди ошеломленно переглядывались. По румяным щекам няньки текли крупные слезы. Пятнадцатилетняя дочка кухарки рыдала в голос, одновременно пытаясь вытащить из под Милочки палантин и отряхнуть его от пыли и шкурок молиных личинок. Первой пришла в себя Мария Симеоновна.
– Милочка, девочка моя, но это просто какая-то чушь! – решительно заявила она. – Все в мире имеет свой срок. Для всего и для всех есть время молодости и надежд, есть время зрелости, и есть старость и дряхлость, когда милосердие Господа позволяет и людям и вещам уйти из этого мира… Все в свое время оказывается на свалке и в этом, поверь, нет ничего ужасного. Гораздо ужаснее, когда то, чему место уж давно там, продолжает жить и коптить небо…
– Значит, когда вы, бабушка, умрете, вас тоже… на свалку? – икнув, спросила Милочка.
– Да, на свалку! – безжалостно ответила Мария Симеоновна. – Как только придет время.
Она всегда считала, что воспитание детей должно быть жестким и честным, а сюсюканья и прочих сентиментальностей не должно быть совсем. Может быть, поэтому ее единственный сын Петя с детства и по сей день писал стихи.
Милочка затравленно огляделась. Софи, стоя вполоборота к происходящему, судорожно кусала губы, чтобы не расхохотаться. Милочка неправильно истолковала ее гримасу, кинулась к матери и зарылась в ее юбки с воплем:
– Мамочка! Не бойся! Я никогда, никогда тебя на свалку не отдам!!!
– Ну, разумеется, разумеется, моя хорошая, – подтвердила Софи, гладя девочку по голове и делая страшные гримасы Петру Николаевичу. – Все так и будет, как ты говоришь. Мы и бабушку на свалку не отдадим. Что за ерунда? Когда придет время, похороним ее в красивом глазетовом гробу с кружавчиками и рюшечками, с золотым вензелем на крышке, и много-много белых цветов положим, чтобы красиво было. И оркестр позовем, музыка будет играть, громкая, как она любит. И шубку эту твою тоже сейчас похороним, а Фома вон ей на дудочке сыграет…
– Фиглярка! – прошипела Мария Симеоновна и удалилась.
Милочка постепенно успокаивалась.
Уже после случая с палантином домашним запомнился эпизод, когда Милочка пожалела закопченную прохудившуюся трубу от парового котла, упросила дворника ее не выбрасывать, и взяла трубу «к себе жить», уверяя окружающих, что она теперь будет играть в шахтеров, а труба будет шахтой, куда куклы-шахтеры станут лазить. Как именно складывалась прошлая жизнь трубы в Милочкином понимании, никто, во избежании излишних расстройств, уточнить не решился. Отобрать у девочки ужасную вещь тоже не рискнули.
При всем при том Милочка вовсе не была глупой. В свои восемь лет она охотно и самостоятельно читала детские книжки, унаследовала чутье Софи к слову и иногда поражала окружающих ее людей оригинальностью и меткостью внезапных оценок.
Теперь Милочка стояла, накрутив на палец прядь светлых вьющихся волос (в этом жесте все тоже узнавали Софи, хотя в целом Милочка была больше похожа на Петю), и явно раздумывала над тем, какова степень покинутости и жалкости странного и малопривлекательного на вид мальчика Джонни. Если рассудить по существу, степень получалась просто ужасающе огромной.
Софи внимательно наблюдала за дочерью, испытывая некоторое (весьма, впрочем, слабое) чувство неловкости перед ней.
– Иванушка!! – взвыла Милочка, срываясь с места, подбегая к мальчику и обхватывая его руками за шею.
Софи благоразумно отошла назад, а несчастный дауненок присел и зажмурился от испуга.
– Иванушка! – причитала Милочка. – Ты только ничего не бойся. Тут тебя никто не обидит. Я тебе все свои игрушки покажу, и насовсем подарю, что ты захочешь. И играть с тобой буду, и разговаривать, если, мама говорит, ты умеешь. И Павлушу не бойся. Он не злой вообще-то, просто… казенный такой (Петр Николаевич поднял бровь, услыхав это определение, а Софи одобрительно улыбнулась). Он в игрушки мало играл, и газеты читает, потому у него душа немного по циркуляру устроилась… Но ты, Иванушка, его не бойся, я тебя от него всегда защитю…
Павлуша презрительно фыркнул.
Софи облегченно вздохнула: дочь определенно оправдала ее ожидания и точно сыграла просчитанную для нее роль.
– Надо будет подыскать для него няньку, – вслух сказала Софи, обращаясь к Марии Симеоновне. – Из тех, которые поумнее и не брезгливые.
– Моя тетка согласилась бы, если барыня изволит, – быстро сказала та служанка, которая все крестилась. – У нее у самой в молодости был ребеночек такой… убогенький… Помер потом, все говорили: «Слава Богу», а она, сердечная, так убивалась…
– Прекрасный случай! – обрадовалась Софи. – Значит, твоя тетка и уход за такими детьми знает, и полюбить Джонни сможет… Где она живет? В деревне?
– В Неплюевке, Софья Павловна, семь верст отсюда.
– Так поезжай же за ней сейчас. Если согласится, пусть едет прямо с вещами.
Мария Симеоновна заползла задом поглубже в кресло и сидела, нахмурившись, сплетая и расплетая унизанные крупными перстнями пальцы.
– Как тут у вас однако… оживленно… – решил привлечь ее внимание гость-старичок.
– Н-да, – согласилась Мария Симеоновна. – С такою невесткой не соскучишься.
Милочка между тем сумела как-то уговорить Джонни и увела его к себе, наверх. По выстеленной ковром лестнице Джонни поднимался с трудом, сопя и цепляясь обеими короткими ручками за перила. Милочка шла рядом и сочувственно вздыхала.
В светлой, просторной комнате Милочки мальчик огляделся, слегка задержав взгляд на прислоненной к стене трубе от парового котла. По-видимому, даже его слабые мозги как-то осознали неуместность присутствия этого предмета в детской.
– Вот, гляди, Иванушка, – воодушевлено объясняла девочка. – Ты, значит, Джонни, а я (девочка ткнула себя пальчиком в грудь) – Милочка. Запомнил? Ми-лоч-ка! Меня вообще-то Марией зовут, но все так называют. Вот как ты: Джонни, а по-русски – Ваня. Понимаешь?
– Джонни. Ваня. Милочка, – вполне внятно, куда-то подобрав язык, сказал мальчик. Милочка в восторге захлопала в ладоши. Джонни улыбнулся ей и спросил. – А «урод» – это тоже я?
Милочка присела и зажмурилась, как будто кто-то ударил ее в грудь. Потом выпрямилась, подошла к Джонни, обняла его и решительно прижала к своему плечу уродливую голову мальчика.
– Ты не урод. Ты – Джонни или Иванушка, – твердо сказала она. – А теперь давай игрушки смотреть. Ты что любишь: куклы или солдатиков? У меня и то, и другое есть, потому что Павлуше дарили, а ему – не надо.
Глава 2
Которую читатель, знакомый с предыдущими тремя книгами о приключениях Софи Домогатской, вполне может пропустить, поскольку в ней излагается краткое содержание этих приключений, а также приводится полный список действующих и действовавших ранее героев
В 1882 году в Петербурге, запутавшись в долгах, застрелился потомственный дворянин Павел Петрович Домогатский. Его вдова Наталия Андреевна осталась одна, имея на руках шестерых детей, по старшинству: Софи, Гришу, Аннет, Ирен, Сережу и Алешу. Имение и петербургскую квартиру на Пантелеймоновской улице пришлось продать, чтобы расплатиться с долгами. Чтобы хоть как-то удержаться на плаву и прокормить детей, Наталия Андреевна решает устроить брак старшей дочери, шестнадцатилетней Софи, с другом семьи – пятидесятитрехлетним Ираклием Георгиевичем. Однако, Софи вовсе не согласна быть жертвой, и выходить замуж по маменькиному расчету. Тем более, что ее сердце, как она полагает, уже занято. Уже несколько месяцев она ужасно влюблена в Сержа Дубравина, который выдает себя за богатого московского дворянина. На самом деле Серж – мелкий мошенник, мещанин из Инзы, провернувший в Москве некую аферу, и сбежавший в столицу с деньгами компаньонов. Но компаньоны отыскивают сбежавшего Дубравина в Петербурге и угрожают убить. Опасаясь разоблачения и смерти, Серж тайком едет в Сибирь вместе со своим камердинером Никанором. Накануне отъезда между ним и Софи происходит решительное объяснение. Серж сообщает Софи, что он ее не любит и советует выбросить всю эту историю из головы. Однако Софи ему не верит, полагая, что таким способом он благородно оберегает ее от каких-то свалившихся на него самого неприятностей. Горничная Софи Вера вступает в связь с Никанором и хорошо осведомлена обо всех планах хозяина и слуги. Заняв деньги у своего учителя математики, Софи едет в Сибирь вслед за Сержем. Вместе с нею отправляются Вера и Эжен Рассен, француз, гувернер братьев Софи Сережи и Алеши.
В дороге Эжен Рассен тяжело заболевает и умирает на руках у Софи. Общение с ним производит на Софи огромное впечатление, в каком-то смысле инициирует ее умственную и эмоциональную жизнь. Именно Эжен Рассен становится ее первой настоящей любовью. Но ни он, ни она об этом не подозревают.
Приблизительно в это же время в Сибири, в маленьком городке Егорьевске, насчитывающем всего полторы тысячи жителей, местный золотопромышленник Иван Парфенович Гордеев после сердечного приступа узнает, что он болен аневризмой и может умереть в любую минуту. Гордеев вдовец и имеет двоих законнорожденных детей. Сыну Пете 28 лет, он пьяница и охотник, а более никаких интересов у него нет. Дочке Машеньке 23 года, она хромоножка, затворница и подумывает о монастыре. В том ее горячо поддерживает незамужняя сестра Ивана Парфеновича, Марфа Парфеновна, которая вот уже много лет, после смерти Марии, жены Ивана, ведет дом брата. Фактически обстоятельства складываются так, что Гордееву не на кого оставить прииски и прочее нажитое в течение его жизни хозяйство.
Иван Гордеев задумывает хитрый план и пишет письмо в Петербург, своему приятелю. В письма Иван просит петербургского конфидента отыскать ему хорошего происхождения и воспитания, но небогатого человека, который имел бы хоть какое-то образование, подходящее к горному делу, и открыто предложить ему следующее: место управляющего на приисках, а в дальнейшем, после смерти Гордеева, все хозяйство в собственность. Условие одно: немедленная женитьба на хромоногой Машеньке.
Желающий находится. Им оказывается бедный и романтически настроенный дворянин Митя Опалинский, только что окончивший курс и выучившийся на горного инженера. С рекомендательным письмом к Гордееву, медальоном с портретом Машеньки, будущей невесты и жены, и напутствиями маменьки-вдовы Митя едет в Сибирь.
Случай сводит его в одной карете с Сержем Дубравиным. По пути Митя рассказывает Сержу обо всех своих планах, расчетах и надеждах, кроме, конечно, будущей женитьбы по уговору. В этой же карете, под охраной двоих казаков, везут деньги на прииск. В полутора десятках верст от Егорьевска на карету нападают разбойники из местной шайки Климентия Воропаева, забирают все деньги и убивают кучера, казаков и их случайных попутчиков. Никанор уходит в тайгу вместе с разбойниками. Спустя некоторое время контуженный Серж приходит в себя. Он обнаруживает пропажу всех своих денег, находит рядом с собой мертвого Митю и, поколебавшись, забирает у него документы и рекомендательное письмо к Ивану Гордееву.
Явившись в Егорьевск, Серж Дубравин выдает себя за Дмитрия Опалинского, а свои собственные документы сдает в полицию, сообщая о погибшем попутчике. Гордеев рад приезду будущего зятя и охотно знакомит его с делами. На прииске «Мария» имеется свой инженер – Матвей Александрович Печинога, странных привычек и уродливый внешне человек, самоед-полукровка, но при том прекрасный специалист. Не будучи осведомленным о матримониальных планах Гордеева, Матвей Александрович полагает, что место управляющего на приисках – по праву его, так как в приишимской тайге никто лучше его не разбирается в горном деле. С людьми честнейший Матвей Александрович ладить не умеет, но полагает это неважным. Приисковые бабы считают Матвея Александровича чертом и уверены в том, что у него нет души. Матвей Александрович сразу, из дела, понимает, что с новым якобы инженером что-то не так, но из своих моральных принципов не доносит о том Гордееву.
Местные обыватели в восторге от Дубравина-Опалинского. Он мил, общителен и приударяет за всеми егорьевскими барышнями сразу. Гордеев по этому поводу недоумевает, но решает выждать, полагая, что это такая особая столичная манера ухаживать. Тем временем хроменькая Машенька Гордеева действительно и от всей души влюбляется в лже-инженера. Он тоже все более симпатизирует ей, но решительного объяснения между ними так и не происходит. Серж вместе с Гордеевым уезжают в Екатеринбург для получения прибывшего из-за границы оборудования.
В это время в Егорьевск прибывает Софи Домогатская вместе с Верой. Почти сразу по приезде она узнает о гибели Сержа Дубравина в тайге от рук разбойников (разумеется, никто не может сообщить ей о том, что Серж на самом деле жив, а погибший – Митя Опалинский). Отчаявшуюся от потерь Софи приютили Златовратские, семья начальника местного училища, состоящая, кроме отца семейства Левонтия Макаровича, из матери – Леокардии Власьевны и троих дочерей – Аглаи, Наденьки и Любочки. Семья вполне образованная и в родстве с Гордеевыми. Леокардия (Каденька, как называют ее родные), приходилась младшей сестрой умершей жене Гордеева Марии, и Иван Парфенович фактически вырастил ее. Все Златовратские имеют свои интересы. Левонтий Макарович интересуется почти исключительно римским правом, Каденька – женским равноправием, и держит амбулаторию для бедных, Наденька тоже увлекается медициной (в основном, народной), Аглая мечтает о женихах, а Любочка тайно влюблена в Николашу Полушкина, старшего сына местного подрядчика.
Николаша Полушкин тоже имеет свою историю. Его мать, юная московская дворянка Евпраксия Александровна забеременела вне брака от кого-то из придворных. Чтобы скрыть позор, ее срочно выдали замуж в Сибирь за давно влюбленного в нее подрядчика. Родившийся Николаша носит фамилию мужа матери, но мезальянс и доселе заметен всем и каждому невооруженным глазом. Николашу Евпраксия Александровна обожает, а младшего сына Васю, напротив, почти не замечает. Между тем Николаша – оболтус и бездельник, приятель Пети Гордеева, а Вася серьезно увлечен наукой и мечтает об учебе в Петербурге. Впрочем, отец даже слышать об этом не хочет и вразумляет Васю с помощью оглобли. Разгадав многое в замысле Ивана Гордеева чутьем природной интриганки, Евпраксия Александровна предлагает драгоценному Николаше свой план, который позволит им обоим вырваться из Сибири и устроиться в столице. Он должен жениться на Машеньке Гордеевой, окончательно споить Петю и увезти жену в Петербург, где она со своей набожностью и хромой ногой будет сидеть за печкой, а Николаша и Евпраксия Александровна будут проводить время в блеске петербургского света на гордеевские деньги. Двери этого самого света откроет перед Николашей его родной отец (Евпраксия Александровна под большим секретом сообщает Николаше его имя). Николаша, который со слов Пети знает о гордеевской аневризме, вырабатывает собственный план и приступает к его реализации.