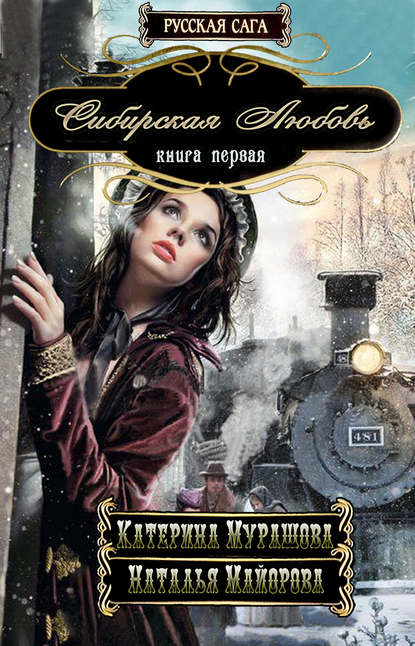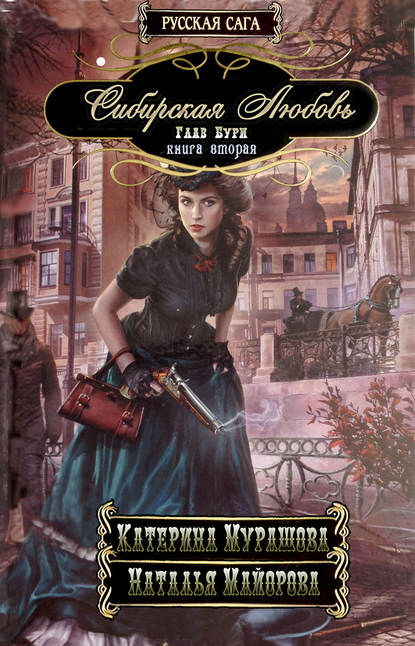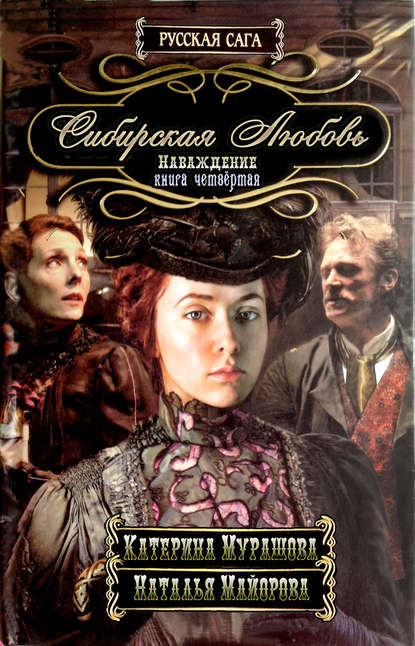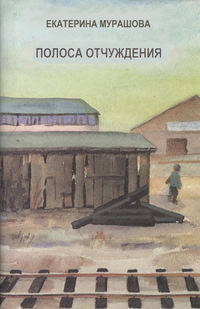Полная версия
Красная тетрадь
– Я предлагаю достать пулю и вычистить рану здесь, в зимовье, – сказала Надежда Левонтьевна и слегка побледнела. – Возможно, в этом случае удастся остановить воспаление. Сами понимаете, я ничего не могу обещать наверняка, но шанс есть…
– Кто ж это сделает? Вы? Вы – врач? Может быть, ветеринар? Лечите самоедских оленей?
Он продолжал острить, чтобы удержать стон и заглушить режущий ужас, выгрызающий воспаленные внутренности. Пуля осталась в ране. Началось нагноение. Помощь из Егорьевска не успеет. Он умрет в муках здесь, на глазах у этой темноволосой, отважной женщины. Прежде, чем он умрет, он окончательно потеряет человеческий облик, будет выть от боли и гадить под себя. Впрочем, то, что она предлагает, может стать немедленным выходом, так как наверняка прикончит его быстрее, чем…
– Я согласен! – быстро сказал он. – Не объясняйте ничего. Делайте то, что сочтете нужным!
Она услышала в его словах просьбу, но решительно не могла ей следовать. Она готова была объяснять и хотела этого.
– Я закончила акушерские курсы. Работала в больнице, в Екатеринбурге. Я не боюсь крови и всего такого. Я с детства помогала матери в амбулатории. Моя мать держала амбулаторию для бедных. Я изучаю медицину киргизов, остяков и других таежных народов. Мне кажется, европейская медицина недооценивает возможности фитотерапии. Я хотела бы посетить Монголию и Китай. Там древние медицинские традиции…
Может быть, она говорила не столько для него, сколько для себя. Он понял это, так же как и то, что ей никогда не доводилось доставать пулю из плоти живого человека. В сущности, все это уже было ему безразлично, но он слушал и не перебивал ее, давая ей выговориться и получить облегчение. Ей тоже страшно, а ведь она женщина, берет на себя ответственность и еще так молода…
– Надя, у вас есть какая-нибудь трава, вызывающая одурманивание? – спросил он, когда она замолчала. – Я слышал, бывают такие…
– Да, я уже заварила. На всякий случай. Чтобы не терять времени. Болиголов и еще два корешка. Действует слабее, чем опий, но все же…
– Хорошо. Что я должен делать?
– Ничего. Когда я все приготовлю, надо будет залезть на стол и… Постарайтесь поменьше дергаться и не отталкивать меня. Я привяжу вас к столу ремнями, но все равно… Мне вас не удержать… Можете ругать меня, как угодно. Любыми словами. Это мне совершенно не помешает.
– Понятно, – процедил он сквозь зубы. Об этой стороне дела он просто не подумал. – Я постараюсь. Но болиголова в таком случае не надо. Если я буду не в себе, то…
– Но болевой шок… – начала она.
«Это именно то, что надо!» – подумал он, улыбнулся и сказал вслух:
– Я попытаюсь справиться. Революционер должен уметь терпеть боль.
К его удивлению, она согласно и совершенно серьезно кивнула, принимая аргумент.
«Дура? – подумал он. – Да нет, вроде, не похоже. Тогда – что? Жаль, так и не узнаю…»
– Хорошо, – сказала она. – А теперь выпейте вот это и лежите по возможности тихо. Не отвлекайте меня, чтобы я чего-нибудь не забыла. Мне надо все предусмотреть, потому что потом, по ходу дела некому будет… Да, перед началом всего вам надо будет пописать. Хорошо было бы сделать клизму, но я не представляю, как… Ладно. Подумаю. Сейчас я дам вам посудину, она, кажется, подойдет, чтобы по-маленькому. Если не сумеете сами, скажите, не стесняйтесь, я помогу…
Измайлов кивнул, зажмурился и три раза повторил про себя: «Скоро все кончится! Вообще все!»
По убеждениям он был атеистом и не верил в потустороннюю жизнь, хотя и носил по привычке крестик, оставшийся от умершей матери, но если он и ошибается, то все равно… Все, что он когда-либо слышал или читал, говорило за то, что даже в аду не предусмотрено клизм и прочей им подобной пакости…
Когда пришла пора ложиться на стол, он был унижен изобретательной Надей всеми возможными способами, его мужское и человеческое достоинство окончательно погибло, а на его место внезапно пришло какое-то полностью отрешенное спокойствие, каковое, наверное, и свойственно умирающим. Все вдруг показалось неважным и почти смешным. Прежде, чем подставить руки под жесткие сыромятные ремни, он даже сумел поднести к губам ее маленькую, но сильную и шершавую как у крестьянки кисть. Она ощутимо сопротивлялась, а он был слаб, поэтому поцелуй пришелся куда-то выше запястья.
– Спасибо вам, Надя, за попытку. И давайте на всякий случай попрощаемся.
– Не мелите ерунды! – отрезала она и грубо выдернула свою руку из его пальцев.
Он успел заметить узенькое обручальное кольцо на безымянном пальце и уже в который раз удивился ей. Она замужем? И что же это за муж, который позволяет жене разгуливать в одиночку по тайге? Самоед-охотник? Но как же так вышло, ведь она училась и работала в Екатеринбурге?… И этого я уже не узнаю, – с непонятным ему самому смирением подумал он.
– И вы, и я должны думать, что все будет хорошо. Это – часть лечения, – чуть мягче заметила Надежда Левонтьевна. – Повернитесь чуть-чуть набок, так мне будет легче достать. И сдвиньте лодыжки. Вот так, отлично… И не бойтесь, пожалуйста…
«Я сама боюсь!» – мысленно продолжил он и едва удержался от смеха. Она взглянула на него с удивлением, расширившимися темными глазами, и сунула ему в губы небольшую, гладко обточенную чурочку. Он покорно вцепился в деревяшку зубами, решившись ни в чем более не противиться ей.
В процессе операции он не терял сознания ни на минуту, хотя не раз, позабыв о приобретенном в мятежной юности атеизме, готов был по-детски молиться Богу о мгновении милосердного забытья.
Когда все кончилось, Надя выполоскала тряпку в холодной воде, обтерла ему лицо, шею и грудь, а потом вдруг разом куда-то исчезла. Он глядел в черный, бревенчатый потолок, чувствовал невероятное облегчение от прекращения жуткой, терзающей боли и ждал какой-нибудь звук, который позволит определить происходящее: стук закрывающейся двери (пошла подышать свежим воздухом); плеск воды (моет испачканные в его крови руки); скрип лежанки и шуршание шкур на ней (прилегла отдохнуть). Ничего не происходило. Он осторожно повернул голову набок и сразу же увидел ее: она сидела на полу прямо у стола, раскинув в стороны ноги и опираясь на руки. Ее короткие густые волосы занавешивали лицо. На мгновение ему показалось, что она уснула в этой диковинной позе, в которой любят проводить время только что научившиеся сидеть младенцы.
– Надя! – тихо и осторожно позвал он. – Надя, что с вами?
Она медленно подняла лицо и ее очи, с дико расширившимися зрачками, встретились с его взглядом. Он привычно растянул губы в улыбке и, старательно вспомнив, как это делается, подмигнул ей правым глазом.
Тогда она последовательно проделала следующее: зарыдала, вскочила, прижалась мокрым лицом к его голой груди, поцеловала его в губы и глаза, бросилась к лежанке и прямо на столе накрыла его до подбородка одеялом, высморкалась в испачканную его кровью тряпку, попыталась напиться из ковша, но из-за дрожи в руке пролила всю воду себе на грудь. Все это время он старательно удерживал улыбку.
Наконец, она слегка пришла в себя и улыбнулась в ответ дрожащей, робкой, не похожей на нее улыбкой. Потом разжала кулак, который все это время держала сжатым и показала ему маленький, сплющенный металлический кусочек.
– Вы – молодец! – прошептал он. – Я и не думал…
– Вы тоже молодец! – горячо сказала она. – Если бы вы не помогали мне, я бы не сумела…
Что именно она не сумела бы сделать, он уже не услышал, так как заснул.
Глава 2
В которой егорьевцы охотятся, а Дмитрий Михайлович Опалинский встречается с незнакомцем
Осень еще только вступила в свои права, и зеленый цвет не изгнан окончательно из лесных одежд. Но уже как-то навалилось на землю тяжелое предзимье, разом погасив и летнюю живость, и те неопределенные надежды, которые будит в чувствительных сердцах первая россыпь яркого осеннего золота. В мелких Березуевских разливах суетились, квохтали, готовились к отлету птичьи полчища. Камыши шуршали сухо и обреченно. Вода меняла цвет с темно-зеленого на свинцово-серый, цвет осени и холода.
Осенью в Егорьевске развлечение – большая утиная охота.
Охотники по обычаю собираются накануне у дома Гордеева. В конюшне, на коновязи нет мест. Конюх Игнат сбился с ног и охрип. Кто-то привязал свою старую кобылу с улицы к ограде и теперь она там волнуется, чувствует себя обманутой, ржет, месит грязь копытами и тянет жилистую шею, чтобы разглядеть, что делается во дворе за оградой, где собралось их, лошадиное общество.
У людей бесконечная, но кажущаяся крайне важной суета: пакуют и снова разбирают корзины, мешки и саквояжи, проверяют и укладывают ружья в чехлы. Рассматривают охотничьи костюмы. Сравнивают патроны, оружие, ведут разговор, неотделимый от ощущения охоты, бессвязный и мудрый. Случайным, но достаточно образованным наблюдателям (их всего двое) кажется, что вот-вот начнут рисовать охрой на стенах охотничьи сценки и метать в них копье, как древние троглодиты. Горничная Анисья безостановочно разносит среди гостей клюквенный квас. Солнечные лучи ползают по стенам второго этажа, но уже не спускаются во двор. Вечер прозрачен, как стакан с водой.
Собак переполняет возбуждение, они крутятся у всех под ногами и поскуливают. Забегают во все подсобные помещения, куда могут проникнуть и везде задирают лапу. Кажется, что параллельно с людским происходит еще и собачье нашествие, имеющее какую-то свою, особую цель. Мефодий, главный над дворней, видит все это безобразие и ворчит себе под нос. Маленький сынишка конюха Игната приманил к себе приглянувшуюся ему, породистую псину и кормит ее на пороге сенника обкрошившейся булкой. Голодная собака жадно ест, переступая лапами, крутит обрубком хвоста и нервно тычется мордой в лицо мальчишки, заставляя того хохотать от восторга. Хозяин псины замечает это безобразие, хватает ребенка, трясет и орет на него так, что со стропил сыплется труха. Маленькие грязные пятки молотят воздух, от страха мальчишка потерял голос. Мефодий осторожно, но твердо высвобождает ребенка из рук гостя и терпеливо объясняет ему, что мальчишке всего четыре годика, он плохо говорит и уж никак не может знать, что перед охотой собак кормить нельзя.
На втором этаже, в покоях, убранных в зеленых тонах, уже горит лампа, но пылинки еще кружатся в угасающем, пробивающемся сквозь шторы солнечном луче.
– Петя, это все обязательно? Весь этот шурум-бурум? Почему бы всем этим людям не поехать на охоту по отдельности и не встретиться уже там, на разливах? Путь недалек… Или вообще сравнить добычу по окончании охоты?
Невысокая, сильно сбитая женщина стоит перед братом, уперев кулак в бедро. Брат много выше ее, улыбается скользящей улыбкой. По его повадке она видит, что он не пьян по-настоящему, но уж где-то приложился. И, пожалуй, не раз. Лучше всего говорит застарелый запах. «И как Элайдже с ним не противно?!» – привычно и почти равнодушно удивляется женщина. На самом деле удивления нет вообще, есть усталость, маскируемая много раз обсосанными размышлениями.
– Это обычай, Машка, ну как ты не понимаешь? – говорит брат, вроде бы по форме оправдываясь. Впрочем, в его голосе тоже нет и намека на какие бы то ни было чувства. Кажется, что оба, едва скрывая скуку, танцуют придворный механический танец из 18 века. – Это же еще при отце так было. Каждый год. А я… Что ж мне нарушать, если я охоту люблю и в этом деле понимаю?
– Кроме охоты, при отце много чего было. В том числе куда более дельного. Отчего ты про это не вспомнишь? – пыльным голосом говорит женщина, которую брат назвал Машкой. – Отчего не поможешь мне, нам?
– Опять снова-здорово! – в голосе Пети прорывается подлинное страдание. – Ну зачем сейчас, Маша? Я должен прогнать людей и прямо вот теперь засесть за амбарные книги? Я знаю! Ты нарочно это говоришь, чтобы испортить мне все удовольствие. Ты знаешь, это, может, одно время в году, когда я могу быть… ну, весел, или хоть сказать – счастлив… Это просто подло, в конце концов, Машка!
– Подло-о?! – с бледных губ женщины срывается почти змеиное шипение.
Петя мигом надевает на узкое лицо скучающее выражение, готовясь перенести сто раз слышанную отповедь. Но Маша молчит, потом говорит медленно, словно сама себе:
– Люди Черного Атамана на Гнилом тракте убили пятерых казаков, отбили троих арестованных рабочих, которых в Тобольск везли. Забрали бумаги, деньги…
– Бред какой-то! – наигранно возмутился Петя, радуясь, что разговор отошел от его привычек. – Что Черному Атаману до каких-то рабочих? Кто они?
– Июньская стачка на Мартыновском заводе, зачинщики. Ничего. Я думаю, это у него такие представления о справедливости.
– Пять жизней за троих арестантов, которых казаки и конвоировали-то по долгу службы? Он сумасшедший, я тебе давно говорил!
– Возможно, жизней было шесть, и это для нас самое важное.
– В каком смысле?
– Я получила письмо от Измайлова, с дороги.
– Измайлов, инженер? Почему с дороги? Я помню: он должен приехать к Рождеству… Сестра, я тебя Христом-богом молю! Мы не могли бы теперь все это отложить до окончания охоты? Ну дай ты мне хоть раз в год вдохнуть полной грудью без всяких этих… А потом я…
– Измайлов по каким-то своим личным причинам выехал раньше. Не успел написать до отъезда, писал уже здесь, из Екатеринбурга. У меня есть основания полагать, что он присоединился к тем казакам, на которых напали…
– То есть, его тоже убили? Нашли труп? Ну что за напасть! – Петя в сердцах ударил кулаком по жесткой ладони.
– Я не знаю, Петя, я ничего не знаю. Тело вроде бы не нашли. Но был кровавый след, ведущий в болото… и прошла уже почти неделя… Я чувствую, что он был там! Это просто какой-то кошмарный сон…
– Разумеется, сон! – Петя неожиданно разозлился, а может быть, просто его опьянение перешло в какую-то иную стадию. – И не находишь ли ты, что это именно твой сон? Твой и твоего мужа? Черный Атаман – Сергей Алексеевич Дубравин – ваш общий… на двоих… кошмарный сон! А я не имею… к этому… абсолютно никакого отношения!
Петя говорил, четко отделяя одно слово от другого, и цепко, совершенно трезво вглядываясь в лицо сестры. Потом повернулся на каблуках и вышел. Женщина тихо и безнадежно заплакала. Во всем огромном мире не было никого, кто мог бы ее утешить.
Плоскодонные лодки с низкими бортами плывут среди камышей, вдоль узких проток. Иногда впереди вдруг открываются обширные заводи. Вдалеке выводок гусей поднялся на крыло, вспоров ровный травяной шов неба и воды, утащив на лапах в небо кусок протоки. Вода и воздух стремительно темнеют, густеют и пахнут ванилью. Иногда тишина по бокам проток вдруг взрывается утиным гомоном отходящих ко сну и чего-то испугавшихся птиц.
Маленькие охотничьи домики стоят на сваях. Слуги-инородцы зажигают масляные лампы, охотники скидывают сапоги и патронташи. Красное вино добавляет оживления и неги в охотничьи байки. Впрочем, засыпают все рано.
Дмитрий Опалинский, муж Маши, пытается читать случайно захваченную с собой книжку. Книжка принадлежит Пете Гордееву и между страниц то и дело попадаются песок и жесткие собачьи волосы.
Опалинский откладывает книжку и думает о Пете с необычной завистью. Он – как будто рожден охотником и полноценно живет хотя бы в этом. Большая охота! Длинноствольные ружья, большие костры, возбужденный собачий лай, время набивать патроны, смазывать сапоги медвежьим салом, наново раскрашивать деревянные приманки… Господи, ну почему меня-то это совершенно не трогает?!
Уснуть Опалинскому так и не удалось. Выезжают в половине четвертого. Небольшой слуга-хант ловко работает шестом, Дмитрий сидит на корме. Мимо бесшумно проплывает Петя Гордеев. Петя обходится без слуг, у Пешки-два и Пешки-четыре важные и сосредоточенные морды, похожие на лица туземных дипломатов. Вода полна звезд и тишины. С шеста падают бриллиантовые капли. От холода сводит руки. Укрытия для стрельбы – небольшие деревянные помосты, спрятанные в камышах. Лица скрывшихся в траве охотников обращены к востоку, как будто бы они совершают совместную молитву.
Заря восходит на небо в желтизне, зелени и золоте, словно сохраняя соразмерность земным краскам. Разливы потихоньку просыпаются, совсем рядом шлепают по воде, пробуют голос, продираются сквозь траву невидимые птицы. Облака с рассветом расходятся в стороны, бесстыдно обнажая небо. С юга и востока уже слышны выстрелы.
Прямо на Опалинского, строем, летят сразу две утиные семьи. Он вскидывает ружье, стреляет и промахивается. Как всегда, сначала кажется, что утки идут ниже, чем на самом деле. Вспугнутые птицы уже летят отовсюду, на разных скоростях, под любым вообразимым углом. Дела Опалинского идут на лад. Возбужденный охотой молодой хант собирает убитых уток и сваливает на дно лодки, его запястья окрашены кровью. В мозгу возникает вполне охотничья, молодая мысль: «А вот бы настрелять уток больше, чем Петя! Вот бы ему нос утереть!»
Неожиданно рядом появляется еще одна лодка. Дмитрий не сразу замечает ее, и лишь когда холод от чужого взгляда достигает лопаток, оборачивается. Высокая, тонкая фигура в черном держит в руках ружье и пахнет смертью. Как-то сразу становится ясным, что этот человек не охотится на уток.
– Кто вы? Что вам нужно? – собственный голос кажется Опалинскому несуразно высоким.
Молчание в ответ. Ожидание длилось мучительно, как судорога в сведенной мышце. Разгорающийся восход окрасил золотом темные волосы незнакомца. Дмитрий оглянулся, ища взглядом слугу. Молодой хант сидел на корточках в углу помоста и смотрел в воду. Выстрелы слышались отовсюду и еще одного никто просто не заметит. Утиная охота – самое удобное время для сведения старых счетов…
– Хотите стрелять, так стреляйте! – закричал Опалинский, брызгая слюной.
– Хотел бы, но не получается, – негромко и как-то по-идиотски доверчиво сообщил незнакомец.
– Отчего же? – раздраженно спросил Дмитрий Михайлович. Липкий и унизительный страх потихоньку проходил, сменяясь злостью.
– Из-за нее…
Из соседней протоки, отделенной от помоста узкой полоской камыша, донесся знакомый лай.
– Петя, ты здесь? – вскрикнул Дмитрий Михайлович.
– Ага! – донеслось из травы. – Стой там, мы плывем к тебе. У меня – восемь пар, да еще двух, по крайней мере, Пешки отыскать не смогли…
Напряженно ожидая, он забыл следить за своим врагом и, оглянувшись, увидел, что опасный незнакомец растаял в камышах наподобие болотного морока.
Когда Петина плоскодонка приблизилась, Дмитрий Михайлович склонился к первой выскочившей на помост собаке и звучно поцеловал ее в мокрый кожаный нос. Пешка от удивления чихнула и осела на задние лапы.
Глава 3
В которой Дмитрий Михайлович уговаривает жену и вспоминает не прожитую им жизнь, Любочка Златовратская волнуется за сестру, а Марфа Парфеновна навещает сердечного друга
– Машенька, голубка, я умоляю тебя, давай уедем отсюда! В Петербург, в Москву, в Россию, в Китай, к чертовой матери, куда угодно!
Дмитрий Михайлович Опалинский говорил, отвернувшись к окну, тихо и нервно. Весь облик его напомнил бы способному мыслить метафорами наблюдателю роскошный персидский ковер, забытый на зиму в летней усадьбе. Изначальная тонкая красота произведения была где-то побита молью, где-то запылена, где-то залита тусклыми лужицами свечного воска. Впрочем, первичный изощренный узор вполне проглядывал: Опалинский обладал на удивление правильными и еще не окончательно расплывшимися чертами лица, обрамленного густыми русыми волосами, и стройной фигурой с хорошо развернутыми плечами и тонкой талией. При этом движения его казались излишне мелкими для его роста и сложения.
– Уедем? – уже знакомая нам женщина, объяснявшаяся с братом до начала охоты, ходила вдоль внутренней стены комнаты, оставаясь за спиной мужчины.
Он слышал ее тяжелые, неровные шаги и невольно морщился. Женщина весьма заметно хромала, припадая на правую ногу от бедра и упираясь кулаком чуть пониже поясницы. Увечье ее, след давней болезни, когда-то едва ли не умиляло его, вызывало жаркую волну сочувствия, но нынче в глазах мужчины (и некоторых других хорошо знавших Машеньку людей) трансформировалось весьма странным образом и выглядело уже не болезненным, а скорее нарочитым, едва ли не частью образа. От хромоты походка женщины и все ее передвижение в пространстве приобретали какую-то тяжелую, кошачью грацию и хищность, присущую старым барсам и огромным тиграм, живущим в верховьях Амура. Все знали, что опираясь на изящную трость (Машенька имела их целую коллекцию, некоторые, инкрустированные бронзой и полудрагоценными камнями – подлинные произведения искусства), она могла ходить, почти не хромая. Но, по никому не известным причинам, пользовалась Марья Ивановна тростью крайне редко, предпочитая обходиться без нее.
– А что ж с делом станет? Как ты думаешь? Куда все? – вопрос повис в воздухе и медленно, вместе с кружащейся пылью опустился на дощатый пол, присоединившись к десяткам неотличимых от него собратьев. За прошедшие годы эта комната слышала десятки, если не сотни подобных споров.
– Продадим, обратим в деньги. Хватит на обзаведение в любом месте. Купим домик, сад разведем. В нем будут сливы цвести, вишни, а не шишки дурацкие… Я, если желаешь, служить пойду, ты тоже себе занятие найдешь…
– Кому ж продадим?
– Да хоть ей… им… Вере с Алешей…
– За четверть цены, как она предлагала?! – в светлых глазах женщины метнулись свирепые огоньки. – Да никогда! Лучше все в казну отдам!
– Другим…
– Кому ж другим? Кто купит? Мне тебе объяснять? На двух приисках из трех богатые пески истощились. Золота там еще много, это все говорят, но надо менять технологию добычи. Значит, покупать новую машину – чашу или бочку, это раз. Ставить паровую тягу, как на «Марии» – два. Переучивать рабочих – это три. Новые нормы выработки, новые контракты. Все это должны делать мастера, причем из сильного интереса, чтоб ладно получилось. А половина мастеров – пьяницы, а новых взять негде – это уже четыре. Того довольно. Кто ж у нас на такие затраты пойдет? Кто связываться станет?
– А мы-то? Мы сами? – мужчина не стал говорить громче, но по интонации – почти кричал. – Как мы сами все это проделаем, если у нас нет ни одного толкового инженера, а этого Измайлова – утопили в болоте?! Он просто медленно уничтожает нас! Лучше бы просто убил! Но ему надо, чтобы медленно и мучительно! Я больше не могу! Слышишь, Марья Ивановна, не могу!!! Или уезжаем, или… я не знаю, что я сделаю!
– Ничего ты не сделаешь, вот в чем вопрос, – почти спокойно произнесла женщина, останавливаясь за спиной мужа. – Я уверена, что с Измайловым – это случайность, вовсе не на нас направленная. Никто, кроме его самого, не мог знать, что он раньше поедет…
– Третья случайность за шесть лет?! Ты сама-то слышишь, что говоришь?!!
– А ты – слышишь? – парировала Марья Ивановна. – Савелий Карпович на охоте провалился в ручей, простудился и в горячке умер. Валентина Егоровича у всех на глазах бревном в раскопе зашибло. Еще двое, между прочим, пострадали. Комиссия постановила: случайность, даже никаких нарушений по безопасности не нашла. Что ж тебе еще? Или, по-твоему, он бревно силой духа перенес и лед под Савелием Карповичем проплавил?
– Я не знаю, как это конкретно было сделано, – упрямо повторил мужчина. – Но ни в какие случайности не верю. Когда за шесть лет гибнут три приехавших в один маленький городок инженера…
– Пять! – усмехнулась женщина.
– Чего – пять?
– Не чего, а кого! Пять инженеров, я говорю. Ты Матвея Александровича позабыл, он в тот же срок вписывается… И еще одного… Не буду называть, но как инженер он погиб, с этим ты не можешь не согласиться…
– Конечно, как можно! Позабыть самого Матвея Александровича! Да ни в жисть! – откровенно ерничая, воскликнул мужчина и наконец повернулся к жене лицом. В его необычных – зеленых в коричневую крапинку – глазах, едва ли не стояли слезы. – Да я все эти годы на минуту про него позабыть не могу. И хотел бы, да всяк напомнит! Святой был человек! И в работе, и в жизни, и в любви – выше всяческих похвал! А рожу его жуткую, и как детей им пугали, и дразнили, и едва ли не камни вслед бросали – это позабыли все! И как он рабочих за людей не считал, и как петицию Ивану Парфеновичу носили, заметь! – не про то, чтоб жалованье повысил, а чтобы Печиногу с прииска убрал, и тетрадь его желтую, и штрафы за все подряд, и собаку, которая, чуть что, на людей кидалась… А теперь, как убили его, гляди-ко – едва ль не ангел получается! Загадочная русская душа, черт бы ее побери совсем!
– Митя, ты, по-моему, сам слегка забываешься… – неожиданно почти добродушно рассмеялась женщина. – Матвей Александрович, конечно, святым не был, это уж люди после придумали, из извечной тяги к идеалу, как у Платона описано. Но и ты… Баньши на людей никогда не кидалась, ты это помнить должен. И что он в тетради писал, так это рабочие тогда думали, что провинности и штрафы, а доподлинно так никто и не узнал никогда. Не нашли ведь ту тетрадь-то…