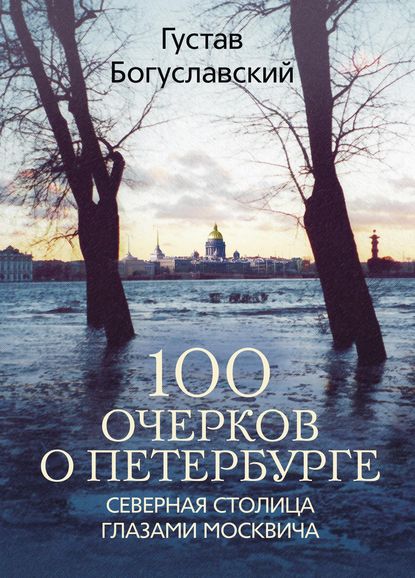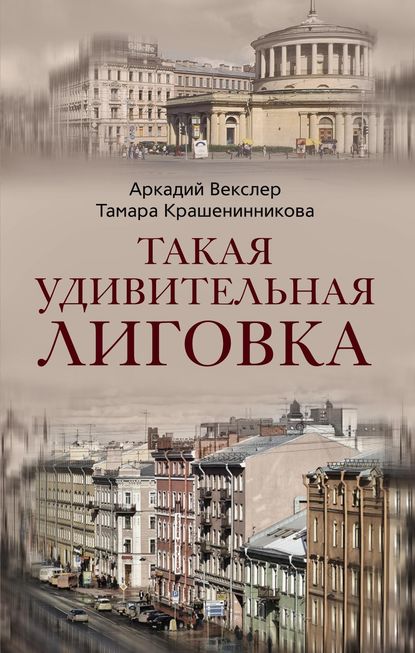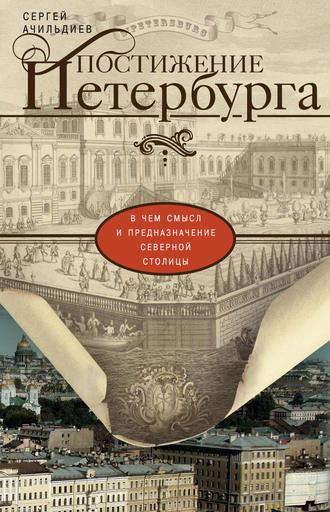
Полная версия
Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы

Сергей Игоревич Ачильдиев
Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы
Памяти моих друзей Ильи Гуркова, Бориса Скрадоля, Аркадия Спички
Постижение Петербурга


В гостах у Раскольникова
Из тяжёлых, подпираемых крышами туч сеет мелкий дождичек. Резкие порывы ветра пронизывают насквозь. Температура – чуть выше нуля, влажность – под сто процентов. Идёшь, словно по дну моря. Нормальная питерская погодка…
В преддверии трёхсотлетнего юбилея города старую Сенную площадь, чрево Питера, уже начали теснить новомодные торговые павильоны с затемнёнными стёклами. Но пока здесь по-прежнему кишит народ: крикливые цыганки и небритые кавказцы, интеллигенты с пудовыми кошёлками и тихие старушки с вязаными шерстяными носками по двадцатке, бомжи и приблудные собаки. Кто продаёт, кто покупает, кто надеется на милостыню, а кто просто норовит стянуть, что плохо лежит.
Выбираюсь из этой толчеи к переулку Гривцова. Изначально он именовался Конным, и в «Преступлении и наказании» обозначен как «К-ный». А значит, вот оно, то самое место: здесь, ««у самого К-ного переулка, на углу», Раскольников случайно услыхал разговор, из которого понял, что ««завтра, ровно в семь вечера», Алёна Ивановна, знакомая ему старуха-процентщица, ««останется дома одна».
В сотне шагов – мост через канал Грибоедова, бывший Екатерининский. В романе он упоминается неоднократно и всякий раз презрительно – «канава». С тех пор вода стала чуть чище, мальчишки даже ловят в ней рыбу. Но, говорят, этот улов не едят даже кошки.
Сразу за мостом поворот налево: Гражданская улица (бывшая Средняя Мещанская) – узкая, тихая и чистенькая, впритык уставленная теми же четырёх-пятиэтажными домами.
Вот и пересечение Гражданской со Столярным переулком, а на нём то самое здание, известное как «дом Раскольникова». Тесная подворотня, на редкость ухоженный двор и ничем не приметная дверь в первый правый подъезд. Внутри – узкая крутая лестница. Тут же на стене аккуратно выведено фломастером: ««Вперёд к Роде!», – и стрелка вверх.
Медленно одолеваю первый пролёт, второй, третий… С каждым этажом надписей на стенах всё больше. На четвёртом они уже наползают друг на друга.
Самое распространённое – объяснения в любви:
««Родя – ты прикольный чел.!»;
««Хоть я не фанатка Достоевского, но я люблю тебя, Родя! Инна, 10-а»;
««Пусть всегда будет Родя!»;
Ему, кумиру, здесь адресованы целые лирические послания:
««Родя! Это место твой храм…Мы поставим свечку в твоём храме. Свеча погаснет, но её свет останется в нас. Он вечен, как вечна жизнь. Ты бессмертен»;
«За ни за что тебе спасибо,
за ни за что тебе, мой друг.
И, словно тень, проходит мимо
волнобаржовый бороздюк! Морозный. Псков».
Есть и явные следы молодёжной агрессивности:
«Бей старух, спасай Россию!»;
«Родя, убей мою соседку!!! P S. Пожалуйста».
Рядом краткие философские эссе:
«Родя! Ты не её убил, а себя! Мурка, Ann, М.-О.»;
«Раскольников тоже не знал, зачем он шёл к Сонечке – ему нужны были её слёзы… Маша»;
«Дорогой мой Родя! Ты – дурак! И зачем, зачем ты сделал это?! Но ты выстрадал – и этим возродился… Твои Наташа и Катя!»;
«Родя, не обманывай себя, ведь ты любишь смерть, я тоже её люблю» (ниже приписка: «Ну и дурак»).
Наконец, под самой крышей, – низкая дверь. Та самая, за которой в каморке, более походившей на шкаф, обитал Родион Раскольников. К этой двери ведут тринадцать ступеней, отделяющие каморку от последнего, четвёртого этажа. Сразу вспомнилось: «Он… прислушался, схватил шляпу и стал сходить свои тринадцать ступеней». Справа от косяка старательно выведено белой краской: «Ждите меня, и я вернусь. Вернусь однозначно! Родя».
Берусь за дверную ручку и осторожно тяну на себя. Нет ни каморки, ни «трёх старых стульев, не совсем исправных», ни «крашеного стола в углу», ни «неуклюжей большой софы». Только укрытый полуистлевшими тряпками полосатый матрас, пустая водочная бутылка, пара грязных тарелок и уходящий куда-то вдаль засиженный голубями чердак: бомжеубежище.
В этот момент на четвёртом этаже – где жила хозяйка, у которой квартировал Раскольников, – щёлкает дверной замок, и передо мной возникает строгая старуха в видавшем виды плаще и шляпке «были и мы молодыми».
– Тоже гадости малюешь?! – вопрошает она, грозно стукнув длинным зонтом об каменный пол.
– Да нет, я только читаю.
– Нашёл, что читать! Глупости всякие, особенно про старух. Страшный дом, и жить тут страшно. Вон моя внучечка, начиталась да пошла на меня с топором. «Хочу, – кричит, – жить одна!». А чем мы, старухи, вам помешали? Дотягиваем своё в нищете. Пенсия такая – без топора помрёшь!..
И она ползёт вниз, кляня дороговизну, дурацкие надписи на стенах и современную молодёжь. С каждым пролётом лестницы стук каблуков и зонтика всё глуше. Потом где-то внизу бабахает входная дверь на тугой пружине, и лестница снова затихает. Только муха, жужжа, бьётся в оконное стекло…
Петербург – город, как известно, мистический. Ещё Гоголю здесь примерещился нос, разгуливающий сам по себе, Блоку – «Христос в белом венчике из роз», по Михайловскому замку, говорят, и теперь время от времени бродит, скрипя паркетом и тяжко вздыхая, призрак императора Павла… И тем не менее, кто мне поверит, расскажи я про эту старуху и её внучку, которая, живя в «доме Раскольникова», ринулась на родную бабушку с топором? Я бы не поверил, сказал бы: выдумки! Потому что сам не знал, как объяснить столь частые, но всегда такие удивительные столкновения петербургского прошлого с настоящим, реального с вымышленным…
Спускаюсь вниз и сворачиваю в подворотню. Справа в стене, несколькими ступеньками ниже асфальта, чернеет дверь. Та самая – в старую дворницкую, тоже чуть приоткрытая, как и тогда, когда подворотню миновал Раскольников, направляясь к Алёне Ивановне. Но я уже не проверяю, лежит ли там по-прежнему топор под лавкой, и выскакиваю на улицу.
Дождь перестал, ветер утих. Стало почти темно, однако фонари пока не зажигали. В вечерней мгле всё кажется ещё более призрачным, размытым, ирреальным. Возвращаюсь на Сенную и шагаю по Садовой в сторону Невского…
А на следующий день отправляюсь в библиотеку, и начинается новое путешествие – по научным трактатам, мемуарам, трёхвековой художественной литературе города. И постепенно петербургский материк вырастает передо мной во всём своём трагедийном величии. Город-счастливец и город-страдалец. Город грандиозных замыслов и несбывшихся надежд. Город немеркнущего мужества и позорного безволия. Неповторимый в своём историческом центре и заурядный в спальных районах. Богатый и бедный. Независимо-строптивый и покорно-послушный. Любимый и проклинаемый…
Шаг за шагом неясное и загадочное становилось – во всяком случае, так мне чудилось – ясным. И тогда появлялись отдельные заметки, цитаты, и размышления складывались в очерки. Но тут же вырастали новые вопросы, и вновь надо было отыскивать тропки в этом тёмном, топком лесу, пытаясь понять причинноследственную связь событий, неожиданность исторических метаморфоз, игру человеческих судеб и поступков.
Наконец, книга вроде бы сложилась. Оставалось отнести её в издательство. Но, перечитав написанное, я с ужасом убедился, что до окончания работы ещё очень далеко. Слишком многое осталось невыясненным, недосказанным, необъяснённым… И тогда стали возникать новые главки и очерки.
Так продолжалось до тех пор, пока я, в конце концов, не понял: написать эту книгу до конца невозможно. Потому что постижение Петербурга может быть только процессом, таким же огромным и нескончаемым, как сам город. И авторская цель вовсе не в том, чтобы отыскать ответы на все вопросы. Она гораздо скромней – чтобы будущий читатель стал соавтором этих заметок.
… Книга вышла в конце 2006 года. Она получила немало положительных откликов. Но были и отрицательные. И я им тоже был по-своему рад: значит, моя работа не оставила читателей равнодушными. Причём интерес к книге не угасал даже после того, как весь тираж давно разошёлся. Кто-то просил почитать авторский экземпляр, кто-то отыскал текст в Интернете, кто-то спрашивал, где можно купить книгу в бумажном варианте…
Но главное – читатели интересовались, почему я ничего не написал про такую-то эпоху, про таких-то знаменитостей и про такую-то коллизию в истории Петербурга, и мне нечего было ответить, потому что читатели были правы. Тем более я и сам уже подумывал о том, чтобы вернуться к этой книжке. И потихоньку даже начал собирать материал и размышлять над некоторыми темами. И чем дальше, тем больше захватывала меня эта работа. Может быть, даже сильнее, чем в первый раз.
Так родился новый вариант книги. Последний ли? Бог весть…
Месте гения
В минувшее гляжу… Так из окна,Что в комнате на верхнем этаже,глядят во двор-колодец: мутный взглядлетит, вертясь, цепляясь за карнизы,туда, туда – где мусорные баки,заплёванные крышки водостоков,исхоженный, измученный асфальти редкие случайные шаги…Александр ВагинОдна из самых трудных загадок, которые хранит Петербург, – что считать его божеством, духом-хранителем, genius loci?
Как только ни называли этот город!
Фёдор Головин, один из сподвижников Петра I, нарёк едва народившийся городок на Неве Петрополем [12. С. 88]. Потом, очень скоро, появилось новое имя, тут же ставшее официальным, – Санктпитербурх. Первая часть – из латыни, вторая и третья – из голландского. И нет ничего удивительного, что народ сразу и навсегда сократил сей заковыристый триптих до простого и общепонятного – Питер. Именно так: на голландский манер. Потому что в ту пору учителями были голландцы, да и сам Пётр с удовольствием откликался на «Питера». Когда и почему произошла перелицовка в немецкий «Санкт-Петербург», неизвестно до сих пор. Можно только догадываться, что самим жителям вся эта иностранщина была не очень-то по сердцу. Частенько они всё же называли город чисто по-русски: Петроград. Помните, у Пушкина в «Медном всаднике»: «Над омрачённым Петроградом / Дышал ноябрь осенним хладом» [16. Т. 4. С. 384]?
Кроме того, многие ещё при жизни царя-основателя обходились без всякого «Санкт», словно запамятовав, что новая столица поименована в честь апостола, а вовсе не царя Петра. Что ж, дело понятное – до святого далеко, а до государя, который разгуливает по городским стройкам с увесистой палкой, – ох, как близко. К тому же сам царь, с присущей ему скромностью, на забвение святости имени города никому не пенял.
Спустя 211 лет после рождения, 18 августа 1914 года, в антинемецком угаре в связи с начавшейся войной Санкт-Петербург – по инициативе Николая II – был переименован в Петроград. Решение славянизировать имя столицы было сущей нелепостью. Ведь воевать взялись не с немецким языком и даже не с немецким народом, а с германским государством (кстати, в ту войну, соблюдая полную, как сказали бы сейчас, политкорректность, противника именовали – и официально, и в уличной толпе – не немцем, а именно германцем). Но главное – город, таким образом, лишался своего небесного покровителя. И уж совсем было обидно, что новое название ставило северную столицу в один ряд с Елисаветградом (Херсонской губ.), Константиноградом (Полтавской губ.), Новоградом (Волынской губ.), Павлоградом (Екатеринославской губ.)…
Многие горожане, обладавшие иммунитетом против националистической бациллы, выражали недовольство сменой имени столицы. Художник Константин Сомов называл это позором [19. С. 10]. Александр Бенуа часто повторял, что это наименее простительная ошибка из всех многочисленных ошибок Николая II, ибо она – «измена Петербургу» [8. С. 320]. Даже некоторые представители самой власти были против инициативы царя. Бывший министр народного просвещения, а в ту пору петербургский голова Иван Толстой записал в личном дневнике: «Такого рода шовинизм мне совсем не нравится, являясь довольно печальным предзнаменованием…» [9. С. 189].
Однако недаром подмечено, что чехарда с переименованиями – одна из любимых русских забав. Всего через два дня после смерти первого большевистского вождя, 26 января 1924 года, по решению II Всесоюзного съезда Советов город получил новое официальное имя: Ленинград. Именной ряд выстраивался явно по нисходящей: от святого – к помазаннику Божьему, а от него – и вовсе к политическому деятелю с сомнительной репутацией. Но в стране воинствующего атеизма это уже мало кто замечал. Новый угар, вождистского фанатизма, туманил головы. Причём настолько, что даже «некоторые ретивые цензоры требовали переименовать петрографию в ленинграфию…» [15. С. 318].
Справедливость восторжествовала только 6 сентября 1991 года, когда в результате городского референдума Ленинград, наконец, снова стал Санкт-Петербургом.
Параллельные заметки. Кстати, по-разному называли этот город не только в самой России, но нередко и за рубежом. Историк Михаил Талалай отмечает, что до сих пор «греки называют наш город Петрополь (точнее, Агия-Петрополис), чехи со словаками – Петрохрад (без приставки Свято-), финны – Пиетари» [20. С. 254].
Впрочем, метафорических названий у города было намного больше.
Пётр I любовно сравнивал своё детище с «парадизом», раем земным. Кроме того, царь частенько величал юную столицу то «северным Амстердамом», то «северной Венецией». В таких ассоциациях для него раскрывались две важнейшие ипостаси будущего города – функциональная и архитектурная: новая столица России должна была вырасти в крупнейший порт и стоять на реках и каналах. Обычно все деспоты – великие мечтатели, и невский мечтатель мало чем отличался от своего кремлёвского наследника.
При Екатерине II столицу стали вдобавок называть «Северной Пальмирой», намекая тем самым на сравнение российской императрицы с прославленной Зиновией, властительницей древней сирийской Пальмиры, которая противостояла всесильному Риму.
Однако гордая мечта основателей и первостроителей Петербурга в дальнейшем кое-кому стала казаться одним из проявлений пресловутого русского квасного патриотизма, стремлением заткнуть за пояс весь мир, а потому все эти величественные эпитеты они заменили ироничным: «северная вторичность». В частности, Александр Герцен с насмешкой утверждал, что «…Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на все похож…» [10. Т. 2. С. 392].
Поэты любили именовать Петербург «Петрополем» или «Петрополисом» (от греч. petros – камень, polis – город). Захватившие власть коммунисты – «городом Ленина» и «колыбелью революции». Журналисты, уже на моей памяти, – «великим городом с областной судьбой». Наконец, на исходе ХХ века первый президент России Борис Ельцин подписал указ о присвоении Петербургу звания «культурной столицы». Но чего в таком статусе оказалось больше – уважения или горестной насмешки, – понять было трудно, ведь почти все ведущие центры культуры, а также большинство выдающихся деятелей на этом поприще давно находились в Москве.
Собрание определений, которые когда-либо давали Петербургу, настолько обширно, а главное, разношёрстно, что подчас даже не верится, будто всё это сказано об одном и том же городе. Николай Карамзин называл Петербург «блестящей ошибкой», Тарас Шевченко – «городом-упырём», Фёдор Достоевский – «умышленным», «самым угрюмым» и «самым фантастическим из всех городов земного шара», Константин Аксаков – «памятником насилья», Николай Некрасов – «роковым», Александр Блок – «неуловимым», Николай Бердяев – «катастрофическим», Николай Агнивцев – «гранитным барином», «блистательным» и «странным».
Ещё говорили: «город-выскочка», «город-декорация», «город-театр», «город-компиляция», «город-Вавилон» и, наконец, «четвёртый Рим» (в противовес Москве – «третьему Риму»).
В народе Питер «любовно» именовали «полковой канцелярией», «чиновничьим департаментом»; говорили: «Питер все бока вытер», «Кому город, а кому и ворог»…
* * *Какофония названий и прозвищ отражала не только переменчивый российский политический климат да наш особый талант выдумывать всякие клички, но также неуловимость сущности этого города, неустанную попытку его разгадать.
Петербургское краеведение можно смело назвать ровесником самого города. Ещё в 1704 году вместе с пятью сотнями моряков, которые были завербованы в Нидерландах для строящихся русских кораблей, на берега Невы прибыл флотский капеллан Вильгельм Толле. Став духовным отцом лютеранской общины города, он вскоре первым взялся за систематическое изучение местной природы, этнографии, истории, и не только у себя в кабинете, но также на местности – в частности, собирал ботанические коллекции на Островах и проводил археологические раскопки в Старой Ладоге [14. С. 58].
К тем же, первым годам существования Петербурга, когда он был ещё крепостью, относится и одно из первых его изображений. Правда, сделано оно было не краеведами, а противниками-шведами, которые создали «План основания крепости и города С.-Петербурга в 1703–1705 гг.». «В пояснительном тексте приводится сообщение шведского генерал-лейтенанта И.Г. Майделя от 24 июля 1704 г.: “Петербург очень хорошо основан и укреплён; его положение таково, что он может стать одновременно и сильной крепостью, и процветающим торговым городом; если царь сохранит его в течение нескольких лет, то его власть на море станет значительной"» [5. С. 46]. Подлинник этого документа до сих пор хранится в Швеции.
В дальнейшем традиции петербургского краеведения развивали Антиох Кантемир («Описание Кронштадта и Петербурга», 1738), Андрей Богданов («Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга от начала заведения его по 1751 год», 1779), Иоганн Георги («Описание российско-императорского города Санктпетербурга и достопамятностей в окрестностях оного», 1794), Ф. Шрёдер («Новейший путеводитель по Санктпетербургу», 1820), Павел Свиньин («Достопамятности Санкт-Петербурга», публиковались отдельными выпусками с 1816 по 1828 год и были иллюстрированы гравюрами С. Галанскова по рисункам самого автора), Александр Башуцкий («Панорама Санктпетербурга», 1834), Иван Пушкарёв («Исторический указатель достопамятностей Петербурга», 1846), Владимир Михневич («Петербург весь на ладони», 1874) и многие другие.
Особое место в исторической петербургиане, несомненно, занимают труды Михаила Пыляева, прежде всего его «Старый Петербург» (1887) и «Забытое прошлое окрестностей Петербурга» (1889), а также книги Петра Столпянского «Петербург. Как возник, основался и рос Санкт-Питер-Бурх» (1918), «Петропавловская крепость» (1923), «Музыка в старом Петербурге» (1926) и другие (к сожалению, хранящийся в Российской национальной библиотеке огромный архив исследователя, включающий, в частности, свыше миллиона библиографических карточек, до сих пор доступен только узкому кругу специалистов).
Зарождавшийся на рубеже ХХ века российский «серебряный век» сразу обрёл явно выраженный петербургский акцент. Причём выразилось это не только в искусстве, но и в краеведении, которое благодаря работам мирискусников – прежде всего Александра Бенуа, Игоря Грабаря, Мстислава Добужинского, а также их младших современников, в частности, Георгия Лукомского и Владимира Курбатова, – поднялось на уровень поиска петербургской самоидентификации.
Но расцветом петербурговедения, его «золотым десятилетием» по праву считаются конец 1910-х – 1920-е годы. Причём, как это нередко бывало в России, не благодаря сложившимся условиям, а вопреки им. В те годы Петроград, вместе со всей Россией, переживал культурную катастрофу: подозрение, а зачастую и прямое обвинение в политической неблагонадёжности, закрытие частных учебных заведений, падение или полное отсутствие спроса на такие отрасли гуманитарных знаний, как история религии и церкви, медиевистика и востоковедение, философия и история философских знаний, – всё это лишило работы многих высококвалифицированных специалистов. Значительная часть гуманитарной интеллигенции бывшей столицы оказалась вытесненной на обочину интеллектуальной и общественной жизни. И петербурговедение явилось для неё той отдушиной, где она ещё могла применить свои знания и творческую активность. В этой новой реальности «экскурсионный институт и общество “Старый Петербург" стали методическими центрами для всей России» [13. С. 25].
Именно тогда началось научное осознание петербургского социально-урбанистического феномена. Иван Гревс, крупный специалист по истории античного мира и Средневековья, ввёл в отечественную науку «определение города как личности…новое понимание города как системы, исторически сложившейся “целокупности”. Главное – не архитектурные шедевры, не монументы, не ландшафты. Главное – соединение, слияние, взаимодействие и взаимопроникновение всего того, что определяет влияющую на людей их жизненную среду.» [6. С. 136].
Иван Гревс, его товарищи и последователи, опираясь на исторические факты, поставили принципиально новые вопросы, превратившие краеведение в научную дисциплину. В чём глубинный смысл и высшее предназначение Петербурга? Зачем он был основан и почему именно здесь? Какова его роль для России и каково его место в Европе и мире? Как со временем трансформировались образ, характер и стиль этого города? Какой на протяжении разных эпох представала северная столица в литературе, живописи, музыке и какой видели её сами жители? Каким, наконец, видится будущее Петербурга?..
* * *Пожалуй, один из самых сложных вопросов, на которые вот уже почти сто лет пытается дать ответ петербурговедение, – вопрос о гении места, божестве, духе-хранителе Санкт-Петербурга: genius loci.
Понятие это уходит в глубину тысячелетий, когда религия ещё не знала не только монобожия, но и кровавых жертвоприношений. В те незапамятные времена божеству места люди приносили цветы и делали возлияния вином и молоком. В Петербурге таким местом многие считают воздвигнутый в 1782 году памятник Петру I работы Этьена Фальконе. Вино и молоко, само собой, никто к подножию памятника никогда не приносил, но цветы у гром-камня и нынче можно увидеть даже в лютые морозы. В городе давно бытует легенда, согласно которой северная столица будет жить до тех пор, пока восседает на бронзовом коне её основатель.
Однако Николай Анциферов, один из учеников Гревса, тоже считавший, что питерский гений места – Медный всадник, откровенно признавал: «…описать этот genius loci Петербурга сколько-нибудь точно – задача совершенно невыполнимая» [3. С. 31]. Ничего удивительного, ведь в трактовке монумента – как, впрочем, и в трактовке самой исторической фигуры Петра – всегда существовало два прямо противоположных мнения.
Одно – официально-державное. «Крутизна горы суть препятствия, кои Пётр имел, производя в действо свои намерения, – писал Александр Радищев другу в Тобольск сразу после торжества по случаю открытия памятника, – змея, в пути лежащая, коварство и злоба, искавшие кончины его за введение новых нравов; древняя одежда, звериная кожа и весь простой убор коня и всадника суть простые и грубые нравы и непросвещение, кои Пётр нашёл в народе, который он преобразовать вознамерился; глава, лаврами венчанная, победитель бо был прежде нежели законодатель; вид мужественный и мощный и крепость преобразователя; простёртая рука покровительствующая… и взор весёлый суть внутреннее ускорение достигшия цели, и рука простёртая являет, что крепкия муж, все стремлению его противившиеся пороки, покров свой даёт всем, чадами его называющимся» [17. С. 12–13]. Трудно сказать, в какой степени сам Радищев верил в такую трактовку. Вполне возможно, он просто больше верил в любопытство отечественных почтмейстеров, а потому в письме постарался «отгадать мысли творца» в полном соответствии с тем, как их отгадывала Екатерина II. И тем не менее, не удержавшись, одну оговорку допустил: «победитель бо был прежде нежели законодатель», – явный намёк на то, что первый император чуть не ежедневно писал свои указы, но к законодательству в общепринятом понятии они не имели никакого отношения.
Городские легенды – кстати, первые появились ещё задолго до открытия памятника – объясняли монумент основателю Петербурга совсем по-иному. В одних случаях говорилось, что царь «за один скок» дважды перепрыгивал через Неву на своём коне, а на третий раз навеки замер. В других – будто Петра удержала змея, обвившая ноги коня. А в иных – что таким образом Бог наказал императора за гордыню. В 1815 году Алексей Мерзляков интерпретировал эти легенды так: