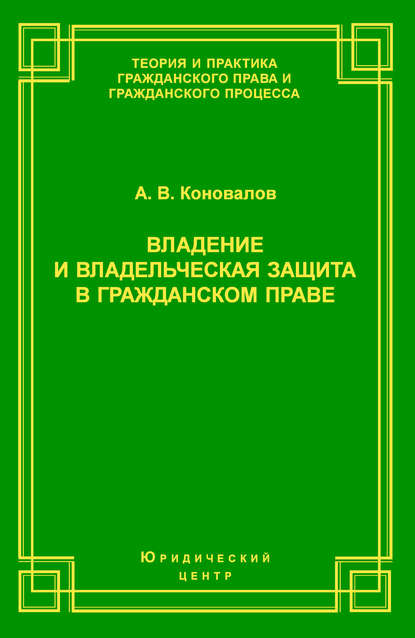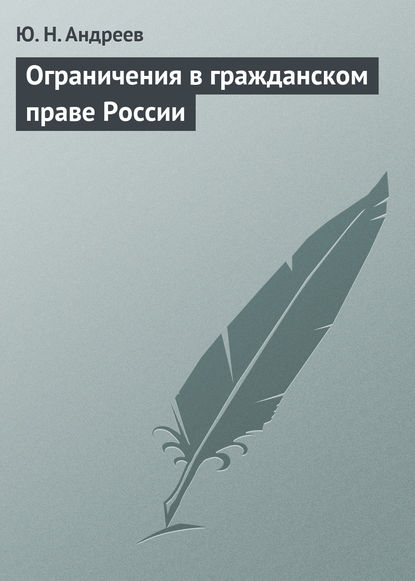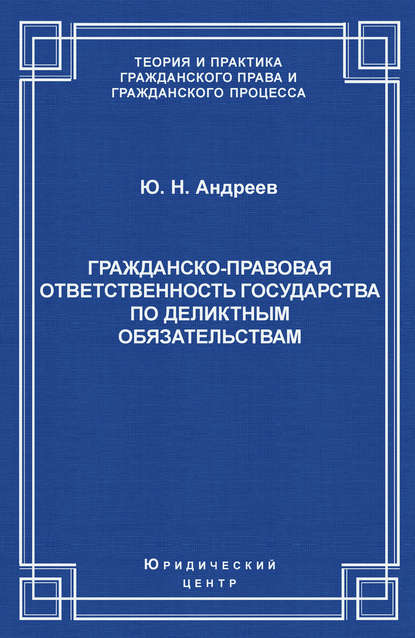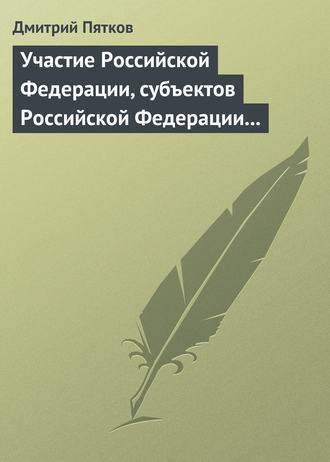
Полная версия
Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в гражданских правоотношениях
Используемое В. Е. Чиркиным словосочетание «организация в обществе» имеет ключевое значение. Государство – это не само общество, а одна из многих организаций в обществе. Существование государства как объединения людей (всего населения страны) не означает прекращение существования общества, преобразование его в государство. Впрочем, деятельность государства в обществе, безусловно, сообщает обществу новые качества. Государство, существующее благодаря объединению людей, выделяясь из общества, остается в системе отношений между людьми в виде особой организации, в виде субъекта, которого не было до возникновения соответствующей государственности. Государство противостоит в конкретных отношениях отдельным членам общества, которые в свою очередь его (государство) образуют. Взаимодействие гражданина и государства можно рассматривать как отношение части (отдельного члена организованного в государство коллектива) и целого (коллектива).
Обособленность государства, его способность вступать в разнообразные отношения с другими организациями и отдельными членами общества отражается в праве. Государство – это правосубъектная организация. Государство может быть воспринято правом как и всякое другое лицо, оно способно быть участником правоотношений. Вне зависимости от числа людей, образующих государство, оно в правовом отношении участвует как один субъект (правосубъектная организация), а не как множественность лиц. Точно так же каждый из группы лиц, создавших коммерческую организацию (например, хозяйственное общество), способен вступать в самые разнообразные отношения с этой коммерческой организацией (например, продать ей вещь, или, напротив, приобрести у нее имущество по договору). Если организация продает имущество, это не означает, что продавцами (субъектами правоотношений, обязанными и управомоченными лицами) становятся все ее участники.
Известный российский ученый-юрист И. А. Покровский писал: «Чем длительнее цель союза, тем неопределеннее его возможный состав, тем более желательным делается придать этому соединению характер некоторого нового юридического центра, обособленного от отдельных физических лиц, входящих в его состав…»[27] Отдельные члены союза-субъекта права «закрываются его новой юридической личностью: юридическое лицо сохраняет свое тождество, несмотря на смену отдельных членов…»[28] И. А. Покровский таким образом объяснял феномен производной личности в гражданском праве, феномен юридического лица. Но нет в его словах ничего, что могло бы препятствовать аналогичному объяснению феномена государства как субъекта права и участника публичных правоотношений. Государство – это в первую очередь организация, союз, объединение людей. Предполагая множество участников, объединение означает их единство. Единство участников союза выражается в существовании общих интересов и целей деятельности, которые не исключают индивидуальный интерес каждого члена союза, а иногда вынужденно ему противопоставлены. Универсальный характер отдельных интересов служит основой персонификации объединения: множество становится юридической единицей, новым юридическим центром. Оно может быть воспринято правом как личность, получает имя, индивидуализируется. В таких случаях говорят о юридической фикции. Однако фиктивным признается не существование какого-либо явления общественной жизни. Изначально фикцией признавалось установленное законом сходство какого-либо явления (не человека) с лицом физическим. Использование фикций позволило подводить новые общественные отношения под нормы, ранее созданные для других отношений, для отношений, субъектами которых были только люди. Именно человек является ближайшим, по выражению Д. И. Мейера, субъектом права[29]. Ссылаясь на источники западноевропейской юриспруденции, другой российский ученый Е. В. Васьковский писал: «…в юриспруденции фикция имеет значение „особой формы аналогического расширения закона“»[30].
Фиктивным является не существование государства как субъекта права, а наличие у него, как и у человека, воли, способности формировать ее и выражать в отношениях с другими лицами. По-видимому, эта ситуация могла быть описана в законе иначе. Участие коллективных образований в правовых отношениях могло приобрести иные правовые формы, без персонификации коллективов, без использования модели участия человека в правовых отношениях. Но законодательство с давних пор отдает предпочтение фикции.
Объектом персонификации может быть не только объединение людей, но и другие реальные явления. Например, русскому гражданскому праву было известно такое юридическое лицо, как открытое наследство[31]. Однако, независимо от объекта персонификации, возникающая правосубъектность подчиняется определенным правилам: общим для всех субъектов права; общим только для юридических лиц; специальным, рассчитанным на определенный вид юридического лица или несколько видов. Эта сторона социального явления составляет часть предмета юридической науки.
Трактовка государства как юридической персонификации нации не требует отказа от поиска и анализа форм и способов существования самого объекта персонификации, но заставляет более внимательно относиться ко многим важным моментам существования государства в правовом пространстве. Государство как политическая организация, наделенная публичной властью, и государство как юридическое лицо, наделенное правом принуждения, не исключающие друг друга понятия. Результат персонификации (новая производная личность) предполагает существование объекта персонификации (например, совокупности людей, объединившихся для достижения общих для них целей). Есть основания считать категорию «юридическое лицо» универсальной категорией, имеющей ценность для права в целом, а не только для гражданского права.
Советской теории государства, использовавшей методологию марксизма, был глубоко чужд названный «буржуазным» юридический подход к изучению государства, когда государство рассматривается в качестве юридического лица (юридической персонификации всего населения страны). Помимо сугубо идеологических причин, для такого противостояния существовали и другие основания. В целом социологический (включая и марксистский) подход к изучению государства был противопоставлен в науке юридическому подходу. Государство исследовалось преимущественно взятым вне правоотношений. Усилия ученых были сосредоточены на выявлении и обосновании классовой сущности государства, его функций. Не случайно, как будет показано в следующей главе, субъектами публичных правоотношений и в настоящее время признаются в основном государственные органы, а не само государство как специфический субъект права.
В современной отечественной общей теории права и государства также превалирует социологический подход к понятию государства[32]. Это необходимо учитывать при решении частных юридических проблем. Важно, однако, заметить, что государство все же признается правосубъектной организацией, участником разнообразных правоотношений. Праву известно много других правосубъектных организаций. К числу организаций закон относит юридические лица (ст. 48 ГК РФ). Даже если и не называть государство юридическим лицом в публичном праве, то все же нельзя отрицать, что механизм участия государства в правоотношениях может иметь много сходств с деятельностью юридических лиц. Потребность в таком сравнении особенно велика, когда речь идет о соотношении государства и его органов, об определении субъектного состава различных правоотношений. В юридической науке подход к изучению государства всегда должен быть в известной мере юридическим.
Важнейшим признаком государства является публичная власть. Для осуществления такой власти характерно принуждение[33].
Конечно, воздействие со стороны государства на общественные отношения не сводится только к принуждению. В отношениях с государством возможен даже договор. Однако, как отмечает Ю. А. Тихомиров, принуждение является важнейшим элементом публичной власти, и прежде всего государственной власти[34]. М. И. Байтин называет принуждение неотъемлемым элементом власти[35]. М. В. Баглай, характеризуя государственную власть, пишет: «Государственная власть отличается правомочием на принуждение граждан к соблюдению правопорядка, отсюда ее фактическая способность как содействовать реализации прав и свобод человека и гражданина, так и нарушать их при ненадлежащем использовании своих правомочий»[36]. Будучи важнейшим элементом государственной (публичной) власти, принуждение тем самым является важнейшим признаком самого государства как участника общественных отношений[37].
Необходимо подчеркнуть, что публичная власть (а значит, и принуждение) является не приобретенным признаком государства, а его сущностным неотъемлемым признаком[38]. Следовательно, организация не может утратить публичную власть, не прекратив своего существования в качестве государства. Какой бы способ действий ни был избран государством, какую бы функцию ни выполняло государство в каждом данном случае, оно всегда остается публично-властным субъектом, уполномоченным на легализованное насилие.
Другим отличительным признаком государства является суверенитет, т. е. свойство государственной власти быть верховной во внутригосударственных делах и независимой во внешних сношениях[39]. Государственный суверенитет – это юридическая и фактическая независимость государства от кого бы то ни было, его способность невзирая ни на кого решать любые вопросы, связанные со своей жизнедеятельностью[40].
Важно заметить, что государственный суверенитет не является самодостаточным и существует в единстве с народным (национальным) суверенитетом. Субъектом национального суверенитета признается нация, народного – народ, государственного – государство. Причем такое единство имеет вполне определенный характер. А. И. Ким писал: «Народный суверенитет выражается государственной властью. В силу этого она сама обладает всеми необходимыми свойствами суверенности»[41]. Ю. Г. Судницин, отрицая тождество национального суверенитета и суверенитета государственного, подчеркивал, что основу государственного суверенитета всегда образует национальный суверенитет, но последний не всегда должен выражаться в утверждении государственного суверенитета, это зависит от воли самой нации и конкретных условий[42]. По его мнению, единство (но не тождество) «государственного и национального суверенитета… состоит… в том, что государственный суверенитет одновременно служит цели обеспечения национального суверенитета, свободы национального развития, цели охраны суверенных прав нации данной страны»[43].
Наличие государственного суверенитета не означает прекращения или преобразования национального (народного) суверенитета. Следовательно, государство с его суверенной публичной властью в принципе не должно исключать иные формы выражения (обеспечения) национального и народного суверенитета. Роль государства в жизни нации (народа) зависит в конечном счете от того, каким образом реализован национальный (народный) суверенитет.
Признак суверенности является особенно важным при сравнении государства с другими объединениями людей, наделенными публичной властью. Речь в данном случае идет о субъектах федерации. Существуют различные точки зрения на их правовое положение[44]. Субъекты федерации иногда признаются государствами[45], но чаще государственными образованиями. Однако сущностным признаком субъекта федерации, как и федеративного государства, является публичная власть. Можно не считать такую власть суверенной, но наличие у субъекта федерации публичной власти никем не отрицается.
Публично-властное начало присутствует и в деятельности муниципальных образований. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»[46] муниципальное образование – это городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления. Из нормативного определения следует, что муниципальное образование – это населенная территория, пространственные пределы осуществления местного самоуправления. В свою очередь местное самоуправление в соответствии с Федеральным законом – это деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения (п. 1 ст. 2). Такая деятельность населения рассматривается в качестве выражения власти народа (п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Местное самоуправление выводится за рамки процесса государственного управления, для чего существуют весомые правовые основания в виде закрепленного в Конституции РФ правила: органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти (ст. 12). Однако местное самоуправление не является в чистом виде и институтом гражданского общества. В связи с этим авторы одного из учебников пишут: «…местное самоуправление – это не просто форма самоорганизации населения для решения местных вопросов. Это и форма осуществления публичной власти, власти народа. Муниципальная власть и власть государственная – это формы публичной власти, власти народа»[47]. Е. С. Шугрина отмечает множество общих признаков муниципальной власти и власти государственной[48]. По мнению же М. В. Баглая, «местное самоуправление, хотя оно не входит в систему органов государственной власти, по своей природе все же является частью государственной власти»[49].
Муниципальные образования – это субъекты права, что следует как из Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», так и из других нормативных правовых актов. Например, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальная собственность – это собственность муниципального образования (ст. 1). Иными словами, муниципальное образование – это субъект права собственности. В главе 5 ГК РФ муниципальные образования прямо названы субъектами гражданского права.
Трудно согласиться с приведенным ранее нормативным определением муниципального образования как территории. Территория если и имеет отношение к субъекту права, то лишь в качестве одного из признаков субъекта. Определение муниципального образования как территории неприемлемо еще и потому, что в ст. 12 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» говорится о территориях муниципальных образований. Территория не может принадлежать территории, самой себе. Очевидно также, что муниципальное образование – это и не индивидуальный субъект, не физическое лицо. Если определять государство как правосубъектную публично-властную организацию, можно сказать то же самое и о муниципальном образовании. И в соответствии с законодательством, и согласно теоретическим представлениям о местном самоуправлении важным признаком муниципального образования как субъекта права является публичная власть.
§ 2. Участие публично-властных организаций в правоотношениях
Государство и другие публично-властные организации действуют посредством своих органов. И в общей теории права, и в государственном праве органы государства[50] обычно определяют как функциональные части государственного механизма (государственного аппарата), наделенные государственно-властными полномочиями. При этом государственные органы называются в числе субъектов права, в частности государственного права, наряду с государством. В таком качестве государственные органы нередко именуются официальными представителями государства, субъектами, действующими от имени государства. Это обстоятельство требует четкого определения границ правосубъектности государственных органов.
Поскольку государство и его органы объявляются субъектами одних и тех же отраслей права, становится принципиальным вопрос о соотношении правосубъектности этих лиц. Данное обстоятельство часто остается как будто бы незамеченным в государственно-правовой литературе.
Например, авторы одного из учебников по государственному праву, рассматривая конституционно-правовой статус субъектов РФ, в конечном счете представляют взаимоотношения федеральных и региональных органов исполнительной власти как явления одного порядка с взаимоотношениями Российской Федерации и ее субъектов[51]. Более того, конституционные нормы, определяющие предметы ведения Российской Федерации и субъектов РФ (ст. 71, 72 и 73 Конституции РФ), преподносятся как нормы, разграничивающие «предметы ведения и полномочия между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов»[52]. И это при том, что в предыдущих главах учебника говорилось о предметах ведения субъектов Федерации и о предметах совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов[53]. Создается впечатление, что государство и его органы, являясь самостоятельными субъектами права, могут быть участниками одних и те же отношений. Деятельность органов и деятельность государства рассматриваются как явления тождественные, это должно было бы означать отрицание собственной правосубъектности государства или государственных органов.
М. В. Баглай утверждает, что государства «являются участниками конституционных правоотношений как в целом, так и через органы государственной власти и управления, должностных лиц, депутатов, избирательные и парламентские комиссии и т. д.»[54]. Само по себе это утверждение вызывает много вопросов: что значит государство «в целом»; почему участие в правоотношении государства «в целом» противопоставляется его участию «через органы государственной власти»; каким образом, если не через органы, государство «в целом» становится участником правоотношений?[55] Еще больше вопросов возникает после того, как М. В. Баглай, назвав государства участниками правоотношений, пишет: «Таким образом, субъектами являются главы государств (Федерации и республик), главы правительств, парламенты и их структурные подразделения, суды всех уровней, а также органы местного самоуправления»[56]. Так кто же субъект правоотношений: государства или их органы?
Следует сказать, что вопрос о соотношении и взаимодействии правосубъектности государства и его органов – это во многом вопрос юридический. В советской юридической науке считалось, что верное представление о государственных органах может сложиться не на основании разрешения сугубо юридических вопросов, а лишь в результате тщательного исследования классовой природы органов государства[57]. Предпринимавшиеся попытки все же решить правовые вопросы соотношения государства и его органов нельзя признать удавшимися. В научной и учебной литературе иногда содержится примерный перечень отношений, субъектом которых является именно государство («государство в целом»), а не его органы[58]. Такие отношения некоторые авторы называют «наиболее важными», «выражающими устои экономического и политического строя»[59]. Часто критерий для разграничения правосубъектности государства и его органов вообще никак не обозначается.
Отсутствие надежного критерия для разграничения правосубъектности государства и его органов приводит к труднообъяснимым выводам ученых при рассмотрении конкретных государственно-правовых отношений. Например, по мнению О. О. Миронова, иностранец, ходатайствуя о принятии в гражданство, вступает в правовое отношение с органом государства. Когда же гражданство приобретено, то правовое отношение устанавливается между гражданином и государством[60]. В этом случае непонятен механизм образования правоотношения гражданина с государством. Так же трудно понять: почему невозможным является правоотношение с государством в момент обращения с ходатайством о предоставлении гражданства.
Вряд ли способствует решению проблемы следующая аксиома: права государства выступают как права его органов[61]. Этот тезис не решение проблемы, а отказ от поиска решения. В таком случае правосубъектность государства, конечно, не равняется правосубъектности какого-либо государственного органа. Однако в той части, в какой правосубъектным оказывается конкретный государственный орган, одинаково правосубъектным объявляется и государство. Кто же субъект правоотношений (государство или орган) – в сущности, зависит от усмотрения автора.
В науке административного права также общепринято рассматривать государственные органы в качестве самостоятельных субъектов права. Большая роль государственных органов как субъектов административного права иногда находит отражение в определении административного права. Например, В. Ф. Волович предлагает следующее определение: «Административное право представляет собой совокупность правовых норм, которые регламентируют организацию (статику и динамику) государственного управления, взаимоотношения органов государственного управления, их внутреннюю структуру и правовой статус»[62]. По мнению В. Ф. Воловича, границы административно-правового регулирования – это «сфера деятельности исполнительной власти, органов государственного управления»[63].
Участие государства в административных правоотношениях лишь обозначается весьма оригинальным способом[64]. Предполагается, что государственные органы действуют как от своего имени, так и от имени государства одновременно. По существу речь идет об особом характере представительства в административном праве: в правоотношении участвует не то лицо, от имени которого действуют, а то, которое действует. Ю. М. Козлов по этому поводу пишет следующее: «В качестве субъектов административного права можно рассматривать Российское государство, субъекты федерации, государственные и негосударственные организации. В такой роли они являются носителями административной правоспособности. Однако в конкретных административно-правовых отношениях они непосредственно не участвуют. Административная дееспособность приходится на долю представляющих их органов исполнительной власти или управления…»[65] Субъектами административно-правовых отношений признается не республика, не край или область, а их органы управления[66].
Такую же позицию занимает и Д. Н. Бахрах, когда в числе общих родовых признаков государственных (муниципальных) органов называет их деятельность «от имени государства, местной администрации и в то же время от своего имени»[67]. Государство в качестве субъекта административных правоотношений им не рассматривается.
Вследствие тесного взаимодействия различных отраслей права в процессе регулирования социально-экономических процессов участие государства в административных правоотношениях становилось предметом исследования представителей иных отраслей юридической науки. Этой проблеме уделяли внимание и цивилисты. Причем не всегда отраслевые конструкции гражданского права получали общетеоретическое обоснование, их применение в других отраслях вызывало возражение. Например, А. А. Пушкин считал, что «если цивилистическое понимание правосубъектности переносить и на административно-хозяйственные правоотношения, то тогда… надо будет согласиться с тем, что в административно-хозяйственных правоотношениях государственные органы никогда не выступают в качестве самостоятельных субъектов права, что в лице их всегда действует государство»[68]. А. А. Пушкин не мог согласиться с таким решением вопроса потому, что оно требовало признать реально существующие правоотношения между государственными органами как отношения государства с самим собой.
Суть решения, предложенного самим А. А. Пушкиным, заключалась в следующем: государственный орган в административно-хозяйственных правоотношениях действует от имени государства, но субъектом этих правоотношений государство не становится; субъектом административно-хозяйственных правоотношений является государственный орган как таковой, действуя от имени государства. Это решение ученый считал возможным лишь при условии отказа от традиционной конструкции представительства, существующей в гражданском праве[69]. Как известно, по гражданскому праву субъектом правоотношений становится представляемый, а не представитель.
Подобное соотношение государства и его органов нельзя признать верным, даже если ограничиться рамками административного права. Так или иначе признается, что государство, являясь субъектом права, в принципе не может стать субъектом правоотношений. Эти выводы противоречат теории права. Субъект права – всегда действительный либо возможный участник правоотношений[70]. Государство должно рассматриваться в качестве возможного участника правоотношений (например, административных) либо оно вовсе не должно рассматриваться в качестве субъекта данной отрасли права.
Упоминавшиеся опасения (односубъектные отношения государства с самим собой) станут необоснованными, если признать, что отношения между государственными органами – это правоотношения именно между государственными органами как самостоятельными субъектами права, действующими от своего имени. Причем существование таких отношений не исключает других правоотношений, непосредственным и полноправным, но не единственным участником которых является государство. В связи с этим весьма интересным представляется ответ на вопрос о правосубъектности госорганов, данный в западной юриспруденции некоторыми основателями такого направления в науке государственного права, как «юридическая школа». Из понятия государства – субъекта права или юридического лица они делали следующие выводы: «государство, будучи юридическим лицом, может действовать только через свои органы; последние не являются юридическими лицами, носителями собственных прав и обязанностей, поэтому их взаимоотношения имеют юридический характер лишь в том смысле, что они регулируются правом»[71]. Такие регулируемые правом отношения не считались правоотношениями в собственном смысле слова[72].