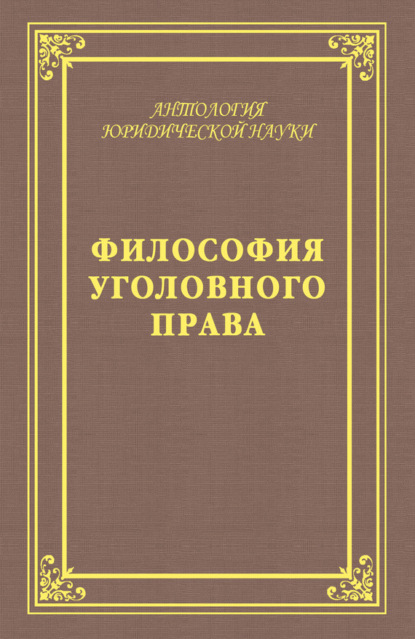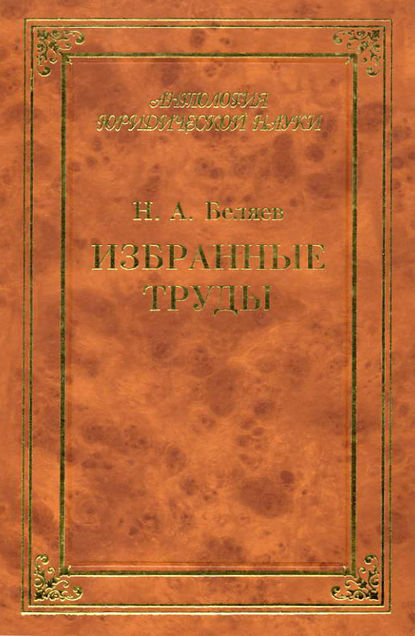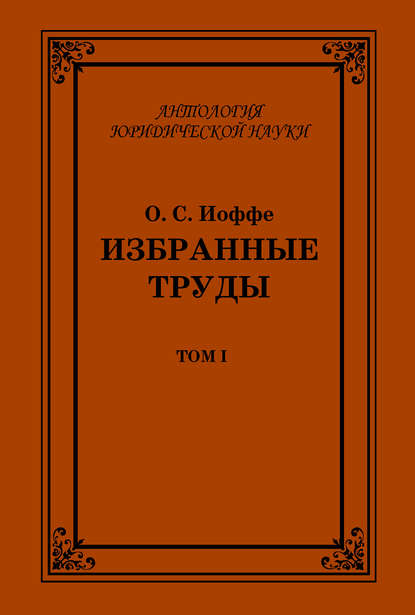Полная версия
Избранные труды
Бездействие матери – некормление ребенка – вызвало недостаточное его питание (это положение вне спора), а в результате недостаточного питания последовала смерть ребенка. Это тоже вызывать сомнений не может. Последствием в составе убийства является, согласно ст. 136 УК РСФСР, не первое звено этой цепи – недостаточное питание, а последнее – смерть ребенка.
Возможность причинения последствия путем бездействия находит прямое признание в советском законодательстве. Так, ст. 111 УК РСФСР говорит о бездействии власти при наличии признаков, указанных в ст. 109 УК РСФСР, то есть, в частности, при наступлении вредных последствий.
Верховный Суд СССР неоднократно проводит принцип ответственности за причиненный бездействием преступный результат. Так, в определении Судебной коллегии Верховного Суда СССР по уголовным делам от 24 сентября 1942 г. указывается:
«Б. признан виновным в том, что он, управляя автобусом, следовавшим по Каширскому шоссе в сторону города Москвы со скоростью 25–30 км в час, не свернул в сторону от шедшего навстречу по тротуару моста гр-на Р., который был в нетрезвом виде, вследствие чего последнего ударило автобусом, и Р., получив ранение, по дороге в больницу скончался».
Из материалов дела видно, что Р. шел по тротуару моста, автобус же, управляемый Б., следовал по проезжей части моста на расстоянии одного метра от тротуара и уже миновал Р. передней частью автобуса, но, услышав стук о заднюю часть автобуса, Б. остановил машину и около задней части автобуса обнаружил раненого Р.
Из всех обстоятельств дела видно, что Б. не было надобности отклоняться влево от тротуара, так как расстояние от автобуса до тротуара вполне гарантировало безопасность движения. Р. получил ранение в результате своей неосторожности.
Не усматривая в действиях Б. состава преступления, Судебная коллегия по уголовным делам приговор народного суда и определение Московского областного суда отменила и дело в отношении Б. производством прекратила.
На материале этого конкретного дела Верховный Суд СССР устанавливает следующее общее положение, имеющее решающее значение для оценки причинной связи как элемента состава каждого преступления: «Наступившие последствия, – говорит Верховный Суд СССР, – могут быть поставлены в вину обвиняемому только в том случае, если они находились в причинной связи с его действиями или бездействием»[89].
И в другом определении (от 2 декабря 1942 г.) Судебная коллегия Верховного Суда СССР снова указывает: «Те или иные последствия могут быть поставлены в вину обвиняемому лишь при наличии причинной связи между преступным действием или бездействием обвиняемого».
В определении Железнодорожной коллегии Верховного Суда СССР от 22 февраля 1949 г. в качестве общего принципа снова выдвигается тезис: обвиняемый несет уголовную ответственность лишь за последствия, «находящиеся в причинной связи с его действием или бездействием».
Таким образом, как вина, так и причинная связь являются необходимыми элементами состава каждого преступления. Отсутствие вины привело бы к чуждому социалистическому правосудию объективному вменению преступного результата. Отсутствие причинной связи – к не менее чуждому социалистическому правосудию положению: к установлению ответственности за действие (бездействие), которое или вовсе не имело преступных последствий, или имело преступные последствия, но причинило эти последствия не привлеченное к ответственности лицо.
Отсюда, конечно, не следует, что необходимо по каждому делу и каждому составу производить специальное расследование наличия или отсутствия причинной связи; в значительном числе случаев и совершенно независимо от того, идет ли речь о материальных или формальных составах, доказанность причинной связи сомнений не вызывает. Например, если Иванов в присутствии свидетелей ударом ножа убил Петрова или его оскорбил, явилось бы совершенно излишним особо выяснять наличие причинной связи между действиями Иванова и их последствиями. Такова же ситуация, если речь идет о других элементах состава, например, об объекте посягательства или результате посягательства[90].
* * *Рассмотренные элементы состава преступления – действие (бездействие), последствие и причинная связь – являются, как было указано выше, обязательными элементами состава каждого преступления. Рядом с этими обязательными элементами должны быть рассмотрены и факультативные элементы, характеризующие объективную сторону некоторых преступлений.
К числу такого рода факультативных признаков должны быть отнесены: 1) предмет посягательства, 2) способ посягательства, 3) время и место посягательства, 4) обстановка посягательства. Обратимся к анализу каждого из названных факультативных элементов состава.
2. Факультативные элементы, характеризующие объективную сторону преступленияа) Предмет посягательстваОбъект преступления всегда является мишенью, по которой преступление ударяет или пытается ударить. В соответствии с этим объектом может являться лишь то, чему преступное действие наносит или пытается нанести ущерб. Это положение непосредственно ведет к выводам, связанным с разграничением объекта преступления от его предмета.
В отличие от объекта предмет преступления не терпит ущерба от преступного посягательства[91]. Сто метров ситца, отпущенных из государственного склада, и сто метров ситца, проданных спекулянтом, по своим материальным признакам тождественны. В преступлении спекуляции ущерб терпит не ситец, а советская торговля. Поэтому объектом спекуляции является советская торговля, предметом – «продукты сельского хозяйства и предметы широкого потребления». Объектом в составе взяточничества является закономерная деятельность должностных лиц, предметом – деньги или иное имущество, переданное в качестве взятки.
Аналогично объектом в составе, предусмотренном ст. 104 УК РСФСР (изготовление и хранение с целью сбыта одурманивающих веществ), будет здоровье граждан, предметом – одурманивающие вещества; в ст. 199 УК РСФСР (оглашение изобретения до заявки без согласия изобретателя) объект – порядок пользования изобретениями, предмет – изобретение и т. д. Предметом, таким образом, являются те вещи, в связи с которыми или по поводу которых совершается преступление.
Неразрывная связь (правовая и политическая) общего объекта преступлений – общественных отношений, и специальных объектов – жизни, собственности и т. д. находит свое выражение в том, что все охраняемые уголовным законом блага и ценности неизбежно охраняются не вне времени и пространства, а в системе определенных общественных отношений.
Некоторые утверждают, что предмета преступления вообще не существует. Имеется объект преступления, он же и есть предмет. Выделение же особо предмета создает «двуобъектность» преступления.
Отождествление предмета преступления с его объектом неизбежно должно приводить к одному из следующих глубоко ошибочных утверждений: или объектом преступления оказываются товары спекулянта, одурманивающие вещества, взятки и т. п., или же все эти элементы состава оказываются без определенного места и значения в системе элементов состава: это и не объект, и не предмет. Неустранимо встает вопрос, что же они собой представляют? Таким образом, противоречащее закону отождествление предмета преступления с его объектом, внося путаницу в понимание состава преступления и его элементов, отнюдь не может содействовать укреплению законности.
Объект является обязательным элементом каждого состава преступления. Напротив, предмет, как было указано выше, является элементом факультативным: имеются составы, в которых указания на предмет отсутствуют.
Искусственно измышлять в подобных составах «предмет» нет оснований. Так, глубоко неверно признавать объектом телесных повреждений – общественные отношения, а «предметом» – здоровье, или объектом оскорбления – общественные отношения, а «предметом» – достоинство личности.
Таким образом, одинаково ошибочными являются как попытки упразднения предмета как одного из элементов состава преступления, так и признание предмета обязательным элементом каждого состава. Предмет, бесспорно, имеет существенное значение, но там, где законом это значение предусмотрено.
б) Способ совершения преступленияДругим факультативным элементом, характеризующим объективную сторону некоторых преступлений, является способ совершения преступления. В ряде преступлений способ действия является элементом, характеризующим основной состав. Так, ст. 141 УК РСФСР карает доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство «жестоким обращением»; ст. 152 УК РСФСР – развращение малолетних или несовершеннолетних «путем развратных действий»; ст. 153 УК РСФСР – половое сношение «с применением насилия, угроз, запугивания» или «путем обмана». Аналогично ст. 86, 861 УК РСФСР карают производство рыбного, звериного и других водных добывающих промыслов и охоты «недозволенными орудиями, способами и приемами» и т. д.
Особого внимания в этом отношении заслуживает ст. 128-в УК РСФСР, которая по существу предусматривает различные способы обмеривания, обвешивания, обсчета (пользование неверными гирями, нарушение установленных цен, продажа товаров низшего сорта по цене высшего и т. п.). Все эти способы являются альтернативными элементами состава преступления, предусмотренного ст. 128-в УК РСФСР: достаточно наличия одного из указанных в законе способов для ответственности за обвешивание и обмеривание.
Часто закон вводит указание на способ действия как элемент, делающий основной состав более опасным. Так, ст. 5810 УК РСФСР считает контрреволюционную агитацию и пропаганду более опасными, если они совершены «с использованием религиозных и национальных предрассудков»; ст. 136 УК РСФСР – более опасным умышленное убийство «способом, опасным для жизни многих людей или особо мучительным для убитого»; ч. 2 ст. 95 УК РСФСР – заведомо ложный донос или показание, соединенные «с искусственным созданием доказательства обвинения»; ст. 117 УК РСФСР – получение взятки «с применением со стороны принявшего взятку вымогательства» и др.[92].
Однако способ совершения преступления отнюдь не всегда является конститутивным, усиливающим опасность элементом состава. Необходимо отметить тенденцию, характеризующую социалистическое уголовное законодательство и выражающуюся в ломке традиционных схем буржуазного уголовного права, проводящего резкую грань между различными видами похищения имущества по способу действия (кража, грабеж, мошенничество). Эта тенденция нашла четкое выражение ранее в Законе от 7 августа 1932 г. и затем в Указе от 4 июня 1947 г., изданных в защиту социалистической собственности. Понятие «хищения» охватывает широкий круг различных по способу действий посягательств на социалистическую собственность – кражу, грабеж, мошенничество, растрату, корыстное злоупотребление властью.
Способ действия порой образует самостоятельный состав, например, в случаях хищения, совершенного при помощи подлога. Верховный Суд СССР и в этом случае признает ненужной особую квалификацию подлога, полагая, что состав хищения охватывает любые способы действия расхитителя. Так, в постановлении от 1 февраля 1949 г. по делу С. Железнодорожная коллегия Верховного Суда СССР указала:
«С. признан виновным в том, что он, работая в охране Юго-Западной железной дороги, 6 августа 1948 г. присвоил деньги путем подделки штрафных квитанций… Линейный суд неосновательно квалифицировал действия С., кроме ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г., также еще и по ч. 1 ст. 108 УК УССР (подлог). Подделка штрафных квитанций являлась способом присвоения С. денег, и в данном конкретном случае преступные действия С. охватываются ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г.; поэтому обвинение С. по ч. 1 ст. 108 УК УССР подлежит исключению из приговора».
Конечно, хищение социалистической собственности, как было выше отмечено, охватывает разнородные способы хищения, ранее предусматривавшиеся в качестве самостоятельных составов (кража, грабеж, присвоение и др.). Однако такое понимание хищения не всегда исключает учет способа хищения в тех случаях, когда способ перерастает в самостоятельный состав. Так, например, если расхититель совершил поджог склада с целью похищения во время пожара сложенных на складе товаров, то действия виновного следует квалифицировать по принципу реальной совокупности и по Указу от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» и по ч. 2 ст. 79 УК РСФСР (умышленное уничтожение государственного или общественного имущества).
Такова же ситуация и при хищении, совершенном при помощи подлога. Такое решение отнюдь не исчерпывается прибавлением еще одной статьи в обвинительном приговоре: нельзя упускать из виду, что санкции по ч. 1 Указа от 4 июня 1947 г. оставляют простор для судьи (от 7 до 10 лет); суд, следовательно, определяя конкретную меру наказания, имеет возможность учесть, помимо факта хищения, также и способ хищения, особенно если этот способ образует самостоятельный состав преступления. По общему правилу, статьи Уголовного кодекса, инкриминируемые обвиняемому, должны отражать – и полно отражать – реальную действительность, то есть те действительные преступления, которые совершены виновным.
Близки, но качественно различны случаи, когда способ действия не является негодным в прямом смысле, но степень вероятности достижения преступного результата при помощи этого способа минимальная; например, мачеха посылает падчерицу в лес во время грозы в расчете, что молния убьет ее. Если смерть жертвы в приведенных случаях и наступила бы, нельзя было бы говорить об умышленном убийстве именно в силу своеобразия способа действия: здесь способ «убийства» в такой мере лишен общественно опасного характера, что перестает быть элементом состава убийства: убийцы при помощи «сил небесных» не представляют той общественной опасности, которая может служить основанием для ответственности за убийство или покушение на убийство.
В связи с учетом способа действия как элемента состава преступления порой возникают спорные допросы квалификации, требующие четкого ответа. Эти вопросы возникают в связи с тем, что в некоторых преступлениях в качестве способа фигурирует действие, способное образовать самостоятельный состав (аналогично случаям хищения путем подлога).
Так, ст. 19312 УК РСФСР предусматривает «уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем причинения себе какого-либо повреждения или путем симуляции болезни, подлога документов или иного обмана». Статья 19312 УК РСФСР, таким образом, в качестве одного из способов уклонения от несения обязанностей военной службы предусматривает подлог. Но подлог образует самостоятельный состав, предусмотренный ст. 72, 120, 170 УК РСФСР. В таком случае здесь также возникает вопрос о квалификации действий гр-на А., уклонившегося от несения обязанностей военной службы путем подлога. Конкретно: отвечает ли А. по ст. 19312 или же по совокупности – по ст. 72 и 19312? Вопрос этот кажется правильным решить следующим образом: в тех случаях, когда самостоятельный состав фигурирует в качестве элемента состава другого преступления, он теряет качество самостоятельного состава и, следовательно, не требует и самостоятельной квалификации. Поэтому нельзя действия А., уклонившегося от несения обязанностей военной службы, квалифицировать по ст. 19312 и 72 УК РСФСР (или ст. 169 УК РСФСР, если уклонение совершено путем мошеннического обмана). Напротив, в тех случаях, когда тот же способ действия, например подлог, не предусмотрен в качестве одного из элементов состава, он неизменно требует, как указано было выше, самостоятельной квалификации. Поэтому за хищение, совершенное при помощи подлога, виновный должен нести уголовную ответственность, как было указано выше, по совокупности – и за хищение, и за подлог. Это положение относится и к мошенничеству.
Мошенничество выражается в получении чужого имущества путем обмана.
О подлоге как форме мошеннического обмана закон специально не говорит. Поэтому, если А., продавая медную вещь за золотую, представил подложную справку в том, что вещь – золотая, то он должен отвечать и за подлог, и за мошенничество.
в) Время и место совершения преступленияВремя и место часто являются важными критериями общественной опасности совершенного преступления.
Поэтому советское уголовное законодательство в ряде случаев предусматривает в качестве элементов состава, характеризующих объективную сторону преступления, время и место посягательства.
Время выделяется законом в тех случаях, когда преступление приобретает особо опасный характер в силу военного времени.
Здесь прежде всего необходимо упомянуть о ст. 596 УК РСФСР, карающей «отказ или уклонение в условиях военного времени от внесения налогов или от выполнения повинностей». Именно в силу введения в состав элемента «в условиях военного времени» ст. 596 УК РСФСР в течение ряда лет мирного строительства бездействовала и, напротив, приобрела большое значение в борьбе с преступлениями в условиях Великой Отечественной войны и снова потеряла это значение после войны. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 28 сентября 1945 г. указано:
«Ввиду возникших в судебной практике с окончанием войны вопросов о квалификации неоднократного или злостного невыполнения обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов государству колхозными дворами и единоличными хозяйствами Пленум Верховного Суда СССР постановляет дать судам следующее указание:
Статья 596 УК РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных республик предусматривают ответственность за указанные в них действия, совершенные лишь в условиях военного времени. Поэтому неоднократное или злостное невыполнение поставок сельскохозяйственных продуктов государству колхозными дворами и единоличными хозяйствами в мирное время должно квалифицироваться, в зависимости от обстоятельств дела, по ч. 2 или 3 ст. 61 УК РСФСР и соответствующими статьями УК других союзных республик»[93].
В соответствии с этим уголовные дела указанной категории повсеместно, в том числе и в местностях, объявленных на военном положении, подлежат рассмотрению в народных судах.
Признак военного времени введен законодателем и в ряд статей, предусматривающих воинские преступления (п. «г» ст. 1932 УК РСФСР – неисполнение приказа в военное время, п. «в» ст. 1937 УК РСФСР – самовольная отлучка в военное время и др.).
Для весьма значительного числа преступлений место совершения преступления не образует элемента состава, ибо место очень часто не определяет ни наличия, ни степени общественной опасности: совершено ли убийство в лесу или дома, совершено ли хищение в городе или колхозе и т. д.; эти различия в некоторых случаях могут оказывать влияние на выбор судом меры наказания, но они не меняют состава. Имеются, однако, и такие составы, одним из элементов которых является место совершения преступления.
Так, ст. 74 УК РСФСР предусматривает хулиганские действия, совершенные «на предприятиях, в учреждениях и в общественных местах»; ст. 86 УК РСФСР – «производство охоты в запрещенных местах». Во всех этих случаях определенное законом место является необходимым элементом соответственных составов.
г) Обстановка совершения преступленияКак было отмечено, социалистическое уголовное право, отбрасывая схоластический спор буржуазных теоретиков о том, что важнее – учет личности преступника или его преступления, – исходит из учета субъекта и деяния, а также всех обстоятельств дела.
Особенное значение при этом иногда приобретает учет обстановки, в которой совершено было преступление, учет взаимоотношений действующих лиц и общей атмосферы, характеризующей совершенное преступление. Так, ч. 2 ст. 5810 УК РСФСР предусматривает и тяжелее карает контрреволюционную пропаганду или агитацию «при массовых волнениях… или в военной обстановке». Не об обстановке в прямом смысле, а об особых условиях совершения преступления говорит ст. 731 УК РСФСР. Статья 731 УК РСФСР карает угрозу убийством, истреблением имущества или совершением насилия по отношению к должностным лицам или общественным работникам, примененную в целях прекращения их служебной или общественной деятельности или изменения ее характера в интересах угрожающего. Диспозиция ст. 731 УК РСФСР, таким образом, предполагает специальные взаимоотношения между виновным и жертвой угрозы, конкретно выражающиеся в наличии цели прекратить или видоизменить деятельность должностного лица или общественного работника.
Во второй части той же ст. 731 УК РСФСР этот элемент выражен в еще более общей форме. Часть 2 ст. 731 УК РСФСР карает «нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в отношении общественников-активистов, ударников на производстве, а также колхозников в связи с общественной или производственной их деятельностью». Учет общей обстановки, в которой было совершено преступление, неизменно производится и судебной практикой.
Еще в большей мере подчеркивает значение общей обстановки совершения преступления ограничительное условие, содержащееся в конце ч. 2 ст. 731 УК РСФСР: ответственность по ч. 2 ст. 731 УК РСФСР наступает лишь «в случаях, когда эти действия по характеру обстановки их совершения или последствия не могут рассматриваться как террористический акт». Таким образом, характер обстановки определяет грань, лежащую между глубоко различными составами.
Обстановка совершения преступления в социалистическом уголовном праве имеет столь большое значение, что фигурирует не только в качестве элемента некоторых составов преступлений, но и в качестве общего принципа, определяющего применение или неприменение наказания.
Так, ст. 8 УК РСФСР допускает неприменение наказания к лицу, совершившему преступление, если к моменту расследования этого преступления или рассмотрения в суде оно потеряло общественно опасный характер «в силу одного факта изменившейся социально-политической обстановки».
д) Другие факультативные элементы состава, характеризующие объективную сторону преступленияПеречисленные выше факультативные элементы, характеризующие объективную сторону преступления, – предмет, способ, время и место, обстановка совершения преступления – наиболее часто встречаются в законе. Однако ими отнюдь не исчерпываются все те элементы состава, при помощи которых закон определяет объективную сторону конкретных преступлений.
Так, нередко закон вводит признак «неоднократности» в качестве элемента, квалифицирующего основной состав (Указ от 4 июня 1947 г.; ч. 2 ст. 74 и ч. 2 ст. 79 УК РСФСР). Поскольку в описании объективной стороны преступления обычно сосредоточены элементы, определяющие его специфику, то, естественно, некоторые элементы, характеризующие объективную сторону, свойственны лишь нескольким, а порой лишь одному составу. Так, состав сопротивления власти (ст. 73 УК РСФСР) имеет место лишь при наличии характеризующего объективную сторону этого преступления элемента «при исполнении служебных обязанностей». О том же говорит и ст. 76 УК РСФСР – публичное оскорбление представителей власти «при исполнении таковыми служебных обязанностей». Иногда элемент состава, характеризующий объективную сторону преступления, выступает в качестве самостоятельного действия. Так, ст. 77 УК РСФСР карает самовольное присвоение звания или власти, «сопряженное с дискредитированием Советской власти или учинением на этом основании каких-либо общественно опасных действий».
Аналогично ч. 2 ст. УК РСФСР карает превышение власти, сопровождавшееся «сверх того насилием, применением оружия или мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями»[94].
В числе факультативных элементов состава, характеризующих объективную сторону преступления, следует упомянуть и о повторности. Так, ч. 2 ст. 74 говорит о повторности как элементе состава квалифицированного хулиганства. О повторности говорят указы Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» и «Усиления охраны личной собственности граждан». Согласно постановлению Пленума Верховного Суда СССР от 19 марта 1948 г.[95], «повторность как квалифицирующий признак следует применять как в тех случаях, когда подсудимый имеет уже судимость за ранее совершенное хищение, так и в тех случаях, когда суд установит, что подсудимый совершил два хищения и более, хотя бы и не был осужден ранее ни за одно из этих хищений[96]. При этом повторность признается и в тех случаях, если ранее совершенное хищение имело место до издания указов от 4 июня 1947 г. Ранее совершенное хищение не может учитываться в качестве квалифицирующего признака только в том случае, если по этому преступлению снята или погашена судимость, либо истекли давностные сроки (ст. 14, 15 и 55 УК РСФСР). Правильное понимание «повторности» приобретает особо важное значение при применении Указа от 4 июня 1947 г., в котором «повторность» выступает в качестве квалифицирующего признака.