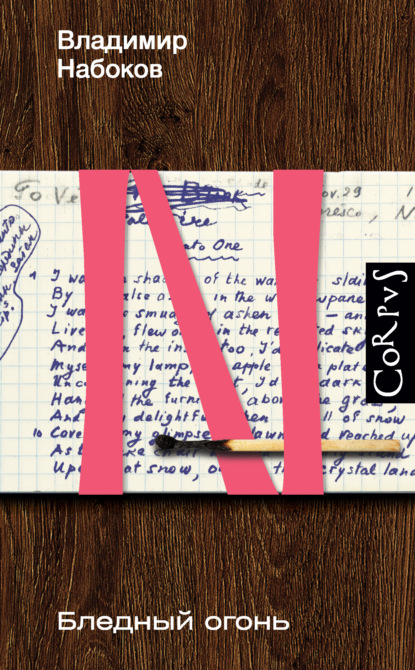Полная версия
Поэмы 1918-1947. Жалобная песнь Супермена

Владимир Владимирович Набоков
Жалобная песнь Супермена
© Compilation copyright © 2023 by The Vladimir Nabokov Literary Foundation
© Состав., предисл., коммент., перевод А. Бабикова, 2023
© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2023
© ООО “Издательство Аст”, 2023
Издательство CORPUS ®
От редактора
Настоящее собрание поэм Владимира Набокова (1899–1977) составили как хорошо известные, так и впервые публикуемые произведения, написанные в Европе и Америке в течение тридцати лет его долгой писательской жизни. Проделанная в последние годы работа по расшифровке новонайденных в нью-йоркском архиве Набокова поэм позволила существенно дополнить русскую часть его двуязычного поэтического багажа. Все они относятся к раннему периоду творчества Набокова, крымской, университетской (кембриджской) и начальной берлинской поре (1918–1923).
Вспоминая в «Других берегах» годы учебы в Кембридже, Набоков уделил всего несколько слов своему главному занятию того времени – сочинению русских стихов:
Страх забыть или засорить единственное, что успел я выцарапать, довольно, впрочем, сильными когтями, из России, стал прямо болезнью. Окруженный не то романтическими развалинами, не то донкихотским нагромождением томов (тут был и Мельников-Печерский, и старые русские журналы в мраморных переплетах), я мастерил и лакировал мертвые русские стихи, которые вырастали и отвердевали, как блестящие опухоли, вокруг какого‐нибудь словесного образа. Как я ужаснулся бы, если бы тогда увидел, что сейчас вижу так ясно – стилистическую зависимость моих русских построений от тех английских поэтов, от Марвелля до Хаусмана, которыми был заражен самый воздух моего тогдашнего быта. Но Боже мой, как я работал над своими ямбами, как пестовал их пеоны – и как радуюсь теперь, что так мало из своих кембриджских стихов напечатал1.
Он не упоминает здесь о том, что кроме коротких стихов сочинял в то время большие поэтические произведения, не указанные в библиографиях и оставшиеся неизвестными, поскольку были уничтожены или утеряны им самим предположительно еще в 20‐х гг., – во всяком случае, автографы поэм «Легенда о луне» (1920), «На севере диком» (1920), «Солнечный сон» (1923) в его архивах обнаружить не удалось, их тексты сохранились благодаря тому, что были переписаны или перепечатаны его матерью, Еленой Ивановной Набоковой.
Содержательно публикуемые в настоящем собрании ранние и зрелые поэмы Набокова по большей части ретроспективно-автобиографические, посвященные пройденным этапам его жизни. Детство, Петербург, Крым, Юность, Университет, Париж, Слава в заграничных эмигрантских реалиях становятся судьбоносными темами, требующими осмысления и надлежащей оцен-ки. В другой части поэм преобладает вольный вымысел, сказочные или фантастические сюжеты – «На севере диком», «Легенда о луне», «Солнечный сон». Вместе с тем в «Солнечном сне» автобиографического материала (сватовство и расторжение помолвки со Светланой Зиверт, одиночество, интуитивное желание следовать своему дару) не меньше, чем в реалистичной до документальности «Юности». По-своему автобиографичен «Olympicum», близкие Набокову спортивные темы которого (теннис, футбол) повторяются и варьируются в «Юности» и в «Университетской поэме».
В поэмах 1920‐х гг. взгляд из эмигрантского настоящего на ностальгически переосмысленное русское прошлое соединяется у Набокова со стремлением противостоять новым течениям в советской литературе. Пафосу строительства нового общества, классовой идеологии, нововведенным искусственным терминам и понятиям советской России он противополагает подлинное, исконное, единственно подлежащее сохранению и продолжению в чужой среде: русскую поэтическую традицию, европейскую петербургскую культуру и изысканный столичный русский язык. Тоска по загубленной великой и блистательной России предков завуалированно звучит в сумрачной поэме «На cевере диком» и в «Легенде о луне», в которой катастрофа, постигшая древнее царство, причудливо отражает революционные события в России, Гражданскую войну и интервенцию. В поздних «Славе», «Парижской поэме» и «К князю С. М. Качурину» Набоков подводит итоги своего довоенного этапа творчества и помимо той же старой ностальгии по России собственного счастливого детства обращается к новой автобиографической теме: мучительному переходу с русского языка на английский и своей вторичной эмиграции в Америку.
Из ранних поэм Набокова «Электричество», «На cевере диком» и «Солнечный сон» – наиболее яркие по замыслу и образному ряду. Последняя из трех, написанная в феврале 1923 г., завершает ювенильный и ученический периоды творчества Набокова и наряду с эссе об английском поэте Руперте Бруке (1922) остается его высшим достижением 1918–1923 гг. Эта поэма об одаренном шахматисте относится к переходной поре писательского становления Набокова, кульминацией которой стало самое крупное его поэтическое произведение, пятиактная «Трагедия господина Морна», оконченная в начале 1924 г.
Неудача с постановкой и публикацией «Морна» и поиски новых средств выражения побудили Набокова задуматься наконец о большой прозе. В том же году он принимается за свой первый, так и не воплощенный роман «Счастье», который к концу 1925 г. полностью перепишет под названием «Машенька». Своеобразие писательского развития Набокова состоит в том, что его переход к романной форме был подготовлен в равной мере сочинением в начале 1920‐х гг. нескольких рассказов (прежде всего «Картофельный эльф», «Удар крыла», «Венецианка»), пьес, сценариев и двух длинных нерифмованных поэтических произведений, «Солнечного сна» и «Трагедии господина Морна»: отказавшись от рифм ради большей повествовательной свободы и более сложной композиции, он приобрел опыт, который позволил ему в 1924–1925 гг. не только изменить направление своего искусства, но и по существусостояться.
В настоящем собрании впервые публикуются поэмы «Двое» (1919), «Легенда о луне» (1920), «Электричество» (1920), «На севере диком» (1920); текст «Солнечного сна» (1923) заново сверен с рукописью, исправлены многочисленные ошибки предыдущих публикаций «Юности» и «Университетской поэмы».
Вне настоящего собрания остается английская поэма Набокова «Бледный огонь» («Pale Fire»), состоящая из 999 строк и сочиненная для одноименного романа (1962), в котором она становится объектом изучения и спекуляций со стороны публикатора. Метрические особенности этого самого крупного английского поэтического произведения Набокова отчасти передают публикуемые нами вПриложениистихи о Супермене, написанные теми же рифмованными героическими двустишиями пятистопного ямба (heroic couplet), традиционно используемыми в английской эпической и повествовательной поэзии, которые были доведены до классического образца Александром Поупом (1688–1744).
Готовя во второй половине 1970‐х гг. итоговый сборник своих русских стихов, вышедший в «Ардисе» уже после его смерти, Набоков включил в него лишь несколько поэм: «Из калмбрудовой поэмы “Ночное путешествие”», «Слава», «Парижская поэма», «К князю С. М. Качурину». В настоящем издании примечания Набокова к этим произведениям публикуются в Комментарии.
Приношу выражение глубокой признательности сотрудникам Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына (Москва) за предоставление первых и редких публикаций поэм Набокова для сверки текстов.
Поэмы
1918–1947
Детство
iПри звуках, некогда подслушанных минувшим, —любовью молодой и счастьем обманувшим, —пред выцветшей давно, знакомою строкой,с улыбкой начатой, дочитанной с тоской,порой мы говорим: ужель все это было?И удивляемся, что сердце позабыло;какая чудная нам жизнь была дана…iiОднажды, грусти полн, стоял я у окна:братишка мой в саду, – Бог весть во что играя, —клал камни на карниз. Вдруг, странно замирая,подумал я: ужель и я таким же был?И в этот миг все то, что позже я любил,все, что изведал я, – обиды и успехи, —все затуманилось при тихом, светлом смехевосставших предо мной младенческих годов.iiiИ вот мне хочется в размер простых стиховто время заключить, когда мне было восемь,да, только восемь лет. – Мы ничего не просим,не знаем в эти дни, но многое душойуж можем угадать. – Я помню дом большой,я помню лестницу, и мраморной Венерымеж окон статую, и в детской – полусерыйи полузолотой непостоянный свет.ivВставал я нехотя. (Как будущий поэт,предпочитал я сон действительности ясной.Конечно, – не всегда: как торопил я страстномедлительную ночь пред светлым Рождеством!)Потом до десяти, склонившись над столом,писал я чепуху на языке Шекспира,а после шел гулять…vОтдал бы я полмира,чтоб снова увидать мир яркий, молодой,который видел я, когда ходил зимойвдоль скованной Невы великолепным утром!Снег, отливающий лазурью, перламутром,туманом розовым подернутый гранит, —как в ранние лета все нежит, все пленит!viТревожишь ты меня, сон дальний, сон неверный…Как сказочен был свет сквозь арку над Галерной!А горка изо льда меж липок городских,смех девочек-подруг, стук санок удалых,рябые воробьи, чугунная ограда?О сказка милая, о чистая отрада!viiУвы! Все, все теперь мне кажется другим:собор не так высок, и в сквере перед нимдавно деревьев нет, и уж шаров воздушных,румяных, голубых, всем ветеркам послушных,на серой площади никто не продает…Да что и говорить! Мой город уж не тот…viiiЗато остались мне тех дней воспоминанья:я вижу, вижу вновь, как, возвратясь с гулянья,позавтракав, ложусь в кроватку на часок.В мечтаньях проходил назначенный мне срок…Садилась рядом мать и мягко целовалаи пароходики в альбом мне рисовала…Полезней всех наук был этот миг тиши!ixЯ разноцветные любил карандаши,пахучих сургучей густые капли, краски,бразильских бабочек и áнглийские сказки.Я чутко им внимал. Я был героем их:как грозный рыцарь смел, как грустный рыцарь тих,коленопреклонен пред смутной, пред любимой…О, как влекли меня – Ричáрд непобедимый,свободный Робин Гуд, туманный Ланцелот!xКартинку помню я: по озеру плыветширокий, низкий челн; на нем простерта дева,на траурном шелку, средь белых роз, а слеваот мертвой, на корме, таинственный старикседою головой в раздумии поник,и праздное весло скользит по влаге сонной,меж лилий водяных…xiГлядел я, как влюбленный,мечтательной тоски, видений странных полн,на бледность этих плеч, на этот черный челн;и ныне, как тогда, вопрос меня печалит:к каким он берегам – неведомым – причалит,и дева нежная проснется ли когда?xiiНазад, скорей назад, счастливые года!Ведь я не выполнил заветов ваших тайных,ведь жизнь была потом лишь цепью дней случайных,прожитых без борьбы, забытых без труда.Иль нет, ошибся я, далекие года!Одно в душе моей осталось неизменным,и это – преданность виденьям несравненным,молитва ясная пред чистой красотой.Я ей не изменил, и ныне пред собойя дверь минувшего без страха открываюи без раскаянья былое призываю!xiiiТа жизнь была тиха, как ангела любовь.День мирно протекал. Я вспоминаю вновь, —безоблачных небес широкое блистанье,в коляске медленной обычное катаньеи в предзакатный час – бисквиты с молоком.Когда же сумерки сгущались за окном,и шторы синие, скрывая мрак зеркальный,спускались, шелестя, и свет полупечальный,полуотрадный ламп даль комнат озарял, —безмолвно, сам с собой, я на полу играл;в невинных вымыслах, с беспечностью священной,я жизни подражал по-детски вдохновенно;из толстых словарей мосты сооружал,и поезд заводной уверенно бежалпо рельсам жестяным…xivПотом – обед вечерний.Ночь приближается, и сердце суеверней.Уж постлана постель, потушены огни.Я слышу над собой: «Господь тебя храни…»Кругом чернеет тьма, и только щель двернаяполоской узкою сверкает, – золотая.Блаженно кутаюсь и, ноги подобрав,вникаю в радугу обещанных забав…Как сладостно тепло! И вот я позабылся…xvИ странно: мнится мне, что сон мой долго длился,что я проснулся – лишь теперь, и что во сне,во сне младенческом приснилась юность мне;что страсть, тревога, мрак – все шутка домового,что вот сейчас, сейчас ребенком встану сноваи в уголку свой мяч и паровоз найду…Мечты!..xviПройдут года, и с ними я уйду,веселый, дерзостный, но втайне беззащитный,и после, может быть, потомок любопытный,стихи безбурные внимательно прочтя,вздохнет, подумает: он сердцем был дитя!21–22 августа 1918Двое
Современная поэма
Гуляет ветер, порхает снег.Идут двенадцать человек.БлокiОбыкновенный сад старинный,обыкновенный старый дом…Друзьям и недругам о немя передам рассказ недлинный.В стихах незвучных и простыхблагословлю я жизнь живую,изображу я роковуюнежданную судьбу двоих…Скажу о прихоти жестокоймоей России одинокой,моей России бредовой, —лишь с оговоркой: при больнойне рассуждают о болезни.Поэт не должен проклинать,а уповать иль вспоминать…Итак, действительность, исчезни!iiОт разрушительных затей,от причитающей печалимы отвернемся, но едва либылое близкое светлей.…………………….Душой и телом крепок, строени как-то весело-спокоен —таков был в эти дни АндрейКарсавин, химик и зоолог.Еще и в школьные годаим путь намеченный всегдабыл и не труден и не долог.Потом, обласканный судьбой,он за границею учился,вернулся, через год женилсяна поэтессе молодой,и, диссертацию большуюо мимикрии защитив,в свою усадьбу родовуюс женой уехал.iiiМолчаливбыл этой жизни вдохновеннойуют блаженно-неизменный…А руль невидимый временв ту пору повернулся круто.Россия билась в муке лютой,России снился грозный сон:нечеловеческие лицаи за зарницею зарницанад полем взрытым, и кругомнепрерывающийся гром,и звучно реющая птицав кольце белеющих дымков,средь безмятежных облаков…ivОсвобожден от службы ратнойпо тем причинам, что для васне драгоценны, вероятно,да удлинили бы рассказ, —не беспокоился Карсавин,жил, негой мудрой окружен;меж тем, зловеще-своенравен,вновь изменился бег времен.Настала буйная година…Самосознанье гражданинасамосознаньем бытияв душе Андрея заслонялосьи в дни позора не сказалось.Грешно – нет спора; но ни я,ни вы, читатели, не смеемего за это осуждатьи сходство тайное с Андреемв себе самих должны признать.Воскликнут гневные потомки,вникая в омут дел былых:«Ввысь призывал их голос громкий,да отставало сердце их!»vИрину нежную – подавновсе это мучить не могло.Очарованье жизни плавнойв ней жрицу чуткую нашло.Она любила вдохновеньясладчайший яд, и льстило ейперебирать в тиши ночейслов оживающие звенья;но дар ее не поражални глубиной, ни силой страстной…Лишь некой женственностью яснойнеобычайно привлекалстих, – и порывистый, и тихий,как падающая звезда:в строке ямбической всегдабыл упоительный пиррихий.О далях жизни, о мечтахтак пело сердце безмятежно,и рифмы вздрагивали нежно,как блики света на листах…viИх белый дом версты на две-триот сельских пашен отстоял.Бывало, при восточном ветре,звон колокольный долетал.Их ограничивал прогулкибор величавый, глухо-гулкий,как ночь, синеющий вокруг.Жизнь протекала без печали,газет они не получалии не слыхали толков слуг.Когда же, охая тревожно,твердил им старичок-лакей:«Да мало ль что теперь возможно,везде разбойники!» – Андрей,невозмутим, самообманут,с улыбкой мягкой возражал:«Что ж, пошалят и перестанут…»viiИх мирный рай напоминалпокой благоуханно-нежныйуединенного гнездав ветвях черемухи прибрежной,нависших над рекой мятежной…И пусть волнуется вода,и пусть волной вольнолюбивойскат размывается крутой —птенцы, неведеньем счастливы,лишь небо видят над собой!viiiВообрази, читатель, темный,от снега весь лиловый сад,тень длинную сосны огромнойи тускло-палевый закат.Мы обойдем, мой друг минутный,усадьбу старую кругом,в окне увидим луч уютныйи в дом, незримые, войдем.Над зеркалом рога оленьи,перчатки на столе пред ним…Идем-ка дале: подозреньямы все равно не возбудим.Сюда. Налево. Приоткроеммы осторожно эту дверь.С Карсавиным, с моим героем,ты познакомишься теперь…ixПросторна комната простая…Свет под зеленым колпакомбелеет, мягко озаряячешуекрылых под стекломразнообразное собранье;и, сгорбившись в кругу лучей,карандашом шуршит Андрей.То – по-латыни описаньемохнатой бабочки одной,им найденной близ Понтрезины,на молодом листке осины,в тринадцатом году, весной…xТебе завидую, ученый:отрадно творческим умоммиров угадывать законыпо жилке на крыле сквозном.Отрадно: нравы и строеньесуществ малейших изучатьи вековое их значеньев сопоставленьях постигать.И счастлив тот невыразимо,кто может ясность мудрецасогласовать неразделимос благоговением жреца, —в ком жаждой истины, познанья,холодной, точной простотыне заглушается сознаньенерукотворной красоты!xiТак – медленно, в труде беззвучномблаженный протекает срок…Пора и кончить.Мотылекснабжен уж именем научными тем языческим значком,каким на картах астрономзвезду Венеру отмечает…Пора – но надо перечесть,неточности, какие есть,исправить.xiiНебо потухает.В оцепененьи ледяномсад принимает тени ночи.Покинув кабинет рабочий,в другую комнату войдем.Глядит в окно, мрачнеет хмуро,как нищий безнадежный, день.От шелкового абажурапрозрачно-розовая теньлегла на кружево подушки.Свет неподвижный серебритфарфоровые безделушки,и в бликах радужных горитна ширме лаковой, китайской,хвост огнецветный птицы райской.xiiiУ добродушного камина,в полусияньи, в полутьме,вникает с трепетом Иринав сонет туманный Мал<л>армэ.Но ненадолго. Понемножкувзор отклоняется от строк,на смутный смотрит потолок…Ласкает бархатную кошкувсе тише тонкая рука.Сидит Ирина, – молчалива,о чем-то думает лениво,чуть улыбается, слегка.Андрея к бабочкам ревнует,и все нежнее и нежнейсон легкий, наклонясь над ней,глаза усталые целует.Вот на медвежий белый мехсползает книга… Сновидений,переплетаясь, реют тени…Вдруг – дорогой, звенящий смехи на плече прикосновеньезнакомых губ…xiv«Ну, полно спать!Как муза томная Парнасцаумеет ласково подкрастьсяи невзначай околдовать!» —«Ах нет! Я попросту усталаи сон все тот же снился мне, —вздохнув, Ирина отвечала. —Мне вновь мерещилось во сне —xvпергамент серо-золотистыйвенецианских вечерови над лагуною лучистойнапевы струн и голосов.Там – тень гондолы удлиненной,там однозвонный ропот струй,там каждый возглас отдаленныйи каждый смутный поцелуй —не песнь, а призраки созвучий,не страсть, а странствующий сон,не жизнь, а канувших временвздох перелетный, вздох певучий…»Ее не прерывал Андрей;в нем спорили мечта и разум;он бы хотел поверить ей,но по случайным знал рассказам,что разочарованье ждетИрину, что мечты напрасны:по золоту лагуны яснойползет дымящий пароход…xviВ лиловой спальне молчаливойраспространился мягкий мрак,и ждал Андрей нетерпеливо…Он приближающийся шагуслышал с дивным содроганьем,и розовое кимоноповеяло благоуханьем…Луч пробежал… и вновь – темно.О холодок объятий сладкий!xviiЧуть шелестели кружев складки;и сокровенные путина сумеречно-нежном телеуста скользящие умеливо мгле извилистой найти.И ласкам трепетным училавсе возрастающая страсть,и в бездну близкую упастьи не давала, и манила.Счастливцы! Пламенных имен,внушенных первыми ночами,не забываете, и вамиих звук полнее повторен.И страсть привычною не станет,и, углубляясь без конца,очарованье не завянети не насытятся сердца!………………..xviiiБыл вечер ветреный.Иринаиграла Моцарта, и стонсквозных аллей был заглушенпрозрачным смехом клавесина.И трепет маленькой руки,и у затылка завитки,чуть золотые, занималиАндрея более, чем плесксозвучий пляшущих.По залетень протянулась. Только блескбледно-рубиновый каминаалел во мгле, как георгина,взлетал, как призрак мотылька, —и озарял – то легкий локон,то мрамор статуи меж окон,то край лепного потолка.xixРассеялись внезапно звуки…Ирина встала, и в глазахкак бы крылатый вздрогнул страх —предчувствие безвестной муки…«Мне жутко…» – молвила она.«Но почему?» Сама не знает…Порой – так сердце замираетв зеркальных лабиринтах сна.«Мне жутко…» Пристально-угрюмыйвзгляд устремился вниз, в огонь.«Ну успокойся, ну, не думай…» —и целовал ее ладоньАндрей, тревожно-удивленный;но только с нежностью влюбленнойхотел обнять ее, как вдругшум за дверьми услышал странный,звон дребезжащий, звон стеклянный,и возглас, и тяжелый стук;потом – слуги дрожащий шепот,смех наглый, торопливый топот,гул незнакомых голосов,и, сыростью повея снежной,вошли двенадцать мужиков,в шинелях, с ружьями…xxНебрежнов карманы руки заложив,Карсавин ждал, что будет дале…Они остановились в зале,его безмолвно окружив.Потом один, с подбитым глазом,Андрея за плечо схватил.Тот, вспыхнув, руку отстранил,и щелкнули затворы разом…xxiПоследовала тишина.Ирина, холодно-бледна,надменно сжав сухие губы,прижалась к мужу. Вздрогнул он.«Эй, к стенке!» – грянул окрик грубый.Тогда, спокоен, озарендушевной силою, без слова,как укротитель средь зверей,всех взглядом удержал Андрейи одного, потом другогоударив кулаком в лицо,Ирину поднял, как ребенка,и мимо, мимо, на крыльцо,в сад, по сугробам… Хлопнул звонкоКонец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Набоков В.Другие берега. М.: АСТ: Corpus, 2022. С. 273–274.