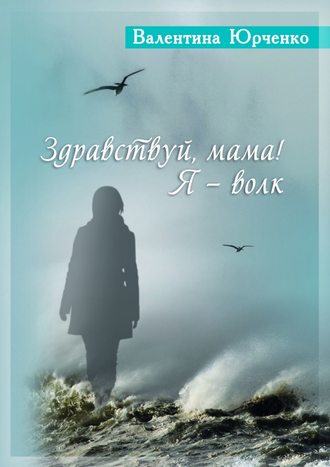
Полная версия
Здравствуй, мама! Я – волк. повести и рассказы

Здравствуй, мама! Я – волк
повести и рассказы
Валентина Юрченко
© Валентина Юрченко, 2015
© Елена Ларькова, дизайн обложки, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Собачья свадьба
А дворняжки они почему?
1
С утра позвонила Полине:
– Как ты?
– Да звездец, Ксюха, полный! Я в шоке. Подожди, в ванну зайду.
– Ивановна рядом?
– Ну.
– Чего у тебя?
– Да ужас! Может, приедешь вечером?
– Не могу. У меня на вечер билеты. Домой еду, уже собралась. У предков тридцатилетие, как они поженились. Дата. И так еле с работы отпустили. Ты можешь сказать, что случилось?
– Да… боюсь я. Слушай, Ксюх, а телефоны прослушиваются в наше время?
– Успокойся ты, кому мы нужны.
– Знаешь, не нужны. А откуда у него телефон мой?! Ты да Ивановна знает.
– У кого, у него?
– У мужа!
– Он в Москве, что ли?
– Тю! А по-твоему, я бы так дергалась?
– А хочет чего?
Полина никогда не замечает, что она непоследовательна в разговорах и действиях. С Полиной меня познакомили в Киеве, но по-настоящему раздружились мы только в Москве три года назад.
– Богдана! Звездец, три года не нужен был, а теперь: «Право имею, право имею». Какое право? Ребенок рос без тебя, воспитывался. Да он забыл давно, как ты выглядишь! Папочка, тоже мне. Оно мне надо? А может, правда, Ксюх, денег дать хочет? Не помешали бы. Все, главное, в одну кучу.
– Что у тебя за грохот?
– Ивановна что-то уронила на кухне.
Светлана Ивановна – нянька, дальняя родственница, не без труда вызванная из Пензы за невысокую плату. Она с Богданом сидит, пока Полька работает.
– А у тебя как?
– Подожди, поезд проедет, – теперь наш разговор перебивает шум электрички.
Мелкой дрожью забилось зеркало платяного шкафа – как в деревне, когда по улице тарахтит трактор. Я снимаю маленькую комнатку с крашеным дощатым полом в двухэтажном доме за Карачаровским переездом. В комнате – комод, дубовый стол, кровать с пружинами и этот шкаф, напоминающий склеп.
– Все, оттарахтел, говори.
– Как там твой Эдик?
Я пожимаю плечами, как будто Полина может это увидеть.
– Кому верить, Ксюха? – привычное завершение разговора.
– Себе, – традиционный ответ. – Да, совсем забыла. Знаешь, кого вчера встретила? Галку помнишь? В метро, представляешь? Совсем не Галка, очень изменилась, в жизни бы не узнала, если бы она меня за руку не остановила. Я говорю, какими судьбами, гастроли что ли?
– Да ты что? Боже, сто лет о ней ничего не слышала! Ну!
– Она сейчас здесь, в театре работает, на премьеру нас пригласила. Я сказала, что ты в Москве, она обрадовалась. А о себе не колется, в театр зовет, там нормально, типа, поговорим.
– Так что ж ты молчишь! Премьера когда?
– Она звонить обещала, обязательно надо сходить.
– Обязательно. Надо же, везде одни наши…
Я кладу трубку, беру дорожную сумку. В прихожую выходит заспанная хозяйка.
— С работы – на поезд?
— Да. Не успею заехать.
Я выхожу из подъезда. «Здравствуй, XXI век!» – на стене Карачаровского завода ультрамодными огнями гелевых ламп светятся буквы: единственный ориентир в темноте здешнего утра.
Зима в Москве начинается в конце октября, а заканчивается – в апреле. Ежась, вдыхаю морозный воздух. Толкаюсь, занимаю в троллейбусе место. Теперь минут двадцать и подремать можно.
Троллейбус гудит сонным ульем. Открываю глаза. Стоим в пробке. Справа – красные резные стены Покровского монастыря. Каждый раз, проезжая мимо, думаю, что надо сходить. Полина говорит, ей матушка Матронушка здорово помогает: нужно только очень просить, мощам поклониться, икону поцеловать.
На перекрестке, рядом с монастырем – ловушка гибэдэдэшная. Вон уже палкой машет, «приглашая» на обочину «ауди».
Выхожу на «Красных воротах», перебегаю дорогу, сворачиваю во двор, поднимаюсь на второй этаж в агентство недвижимости.
– Привет.
– Ого сумочка! Ты обратно когда?
– Через неделю, Танюшка. Соскучиться не успеете.
Танюшка – младшая в коллективе, ей и двадцати нет. Веселая болтушка – умеет разрядить напряженную ситуацию.
– Тебе, как вернешься, шефа встречать, – тут же командует Ник, новый заместитель директора.
– Слышишь, Никита Яковлевич, а может, он сам доберется? Не маленький, и в Шереметьево не впервые. Тем более, с курорта. Отдохнул, сил много.
– Без «может». Любишь кататься… Заодно введешь его в курс дел. На Колькиной машине поедете.
– Хоть на этом спасибо, – я включаю компьютер.
Поезд качнулся и замер. Яркий свет разбудил пассажиров.
– Гривну за рубли! За рубли гривну. Доллары покупаем, доллары!
По вагону скачками перемещаются проводники и менялы.
– Просыпаемся! Готовим паспорта. Просыпаемся, пассажиры!
В тамбурах слышится шипение рации и рычание пограничных собак, кому-то в последний момент предлагают заполнять декларацию. Я смотрю на часы. Суземка – стоять минут сорок.
– Российская пограничная служба. Ваши документы, пожалуйста.
Я оказалась в Москве семь лет назад. С собой у меня был минимум личных вещей, новый паспорт гражданки Украины и деньги, которых хватило, чтобы расплатиться за комнату на Рязанке. Семь лет назад мы спланировали мое бегство в Москву – мы с Галкой – ее я и встретила день назад.
Удивительно. Проходят годы, стираются из памяти события, а потом вдруг – лицо, как лезвие под ребро: неожиданно, дерзко…
– Счастливой дороги, – мне возвращают паспорт.
И все же, несмотря на это пограничное унижение, выдуманное озлобленными националистами-шовинистами, я люблю поезда. Гуманное средство передвижения: если вовремя ограждаешь себя от попутчиков, успеваешь привести мысли в порядок, настроиться на ритм того города, куда направляешься.
В вагоне всеобщее оживление.
– Смотрите, смотрите, якого мордатого понэсли!
– Мама, то розова собачка!
– Яка ж собачка, то – кот.
– Нэ кот! Попугай!
– Мама, хочу собачку!
– На вулицю все одно не пускають.
– Ничого. У Конотопи купым. Там тоже таки будуть. У нас, може, й дешевше.
Я не выдерживаю и вместе со всеми выглядываю в окно. На перроне – город мягких игрушек: пятнистые далматинцы, рыжие глазастые бульдоги, синие слоны, мыши в кедах, розовые, белые, голубые моськи, коты, попугаи, жирафы. Их наперебой предлагают купить местные жители. После смены на фабрике рабочие вынуждены идти на вокзал, чтобы «отбить» зарплату – ее выдают товаром. Поэтому их моськи скулят и ходят на задних лапах, слоны улыбаются, мыши поют популярную музыку, а куклы говорят «I love you», будто говорить «люблю тебя» – унизительно.
Наш роман с Эдиком начался в сентябре и оказался столь же ярким, как ушедшая осень двухтысячного. Природа словно потребовала финала драмы: пронеслась по Москве стремительно, напоминая карнавальное шествие, и разбросала разноцветный гербарий. Осень оборвалась, не успев состояться, непритязательно уступая место зиме. Нашему роману шел шестой месяц, но меня никогда не покидало ощущение, что мы скоро расстанемся.
В начале сентября Эдик привел в агентство иранца. Иностранец не знал русского, и Эдик был у него посредником-переводчиком.
Клиенты зашли в офис без стука. Эдик окинул взглядом сотрудников и посмотрел мне в глаза. На нем был черный костюм, черный кожаный плащ, черные туфли.
Эдик быстро и без интереса уточнил условия съема квартиры, прочел контракт, перевел все иранцу и, воспользовавшись паузой, подошел к моему столу.
Был конец рабочего дня.
– Устала?
Я поняла, что он не испытывает неловкости из-за маленького росточка, но взгляда выдержать не смогла.
– У тебя есть любимый мужчина? – он и на этот раз ответа не ждал.
Вечером мы занимались любовью у него дома, – следствие неистребимого любопытства и неумения говорить «нет».
– Вытри помаду.
Эд был брезглив, опрятен, грубоват и порывист. Быстро восстанавливался, разговаривал мало – и в основном односложными предложениями.
– Я шесть лет сидел. Хищения. Крупные, – сообщил он, привлекая меня к себе. Страшно не было – я безропотно подчинялась порыву.
Запомнилось утро. Шел тихий осенний дождь: не было ветра, капли не барабанили по металлическим крышам балконов – какое-то безвременье, как в космосе. Не хотелось, чтобы наступал день.
Провожая, Эд не узнал номера домашнего телефона и не назначил мне встречи. Я была уверена, что длина такого романа исчисляется ночью, и не понимала, как согласилась на это.
Эд позвонил в агентство ближе к обеду. Удостоверившись, что со мной все хорошо, он положил трубку. Впервые в жизни я почувствовала себя проституткой.
После работы, злясь на себя за то, что потребность обращаться к Богу возникает лишь в минуты раскаяния за проступок, я решила зайти в Покровский. Погода была хорошей, в людный троллейбус залезать не хотелось, и я побрела дворами пешком. Вечерний воздух бабьего лета был глубоким, парным, насыщенным. Казалось, вдыхая его, пьешь молоко. Только через пару кварталов я заметила, что за мной медленно следует серый «фолькцваген».
– Девушка, время пить херши, – Эдик открыл правую дверцу автомобиля.
Эд никогда не дарил мне подарков или цветов, мы не ходили в театры, на концерты, в кино, не сидели по ресторанам, Эд запрещал звонить на мобильный. Он заезжал ко мне на работу в удобный для него вечер и вез к себе, в двухкомнатную квартиру на «Пражской». Он не доверял даже приготовление ужина: включал видео и шел в кухню. У него был хороший вкус, хорошая библиотека и хорошая коллекция психологических фильмов. Я не знала, чем он занимается, и каждый раз боялась об этом спросить.
В нашу вторую встречу Эдик принес из рабочего кабинета – соседней комнаты – гитару. Пел блатные, пел хорошо.
– Редко играю, так – для тебя, – он поставил гитару и улыбнулся: впервые.
А еще через час спросил:
– Пойдешь за меня замуж?
– Ты даешь! Ты же видишь меня второй раз в жизни.
– Ну и что. Я все о тебе знаю. Значит, нет?
Я рассмеялась.
– А чего ты хочешь? Ребенка? Карьеры? Денег? – Эд мыслил глобальными категориями. – Знаешь, чем отличается умный человек от глупого? Только глупый выбирает, умный берет от жизни все.
Как-то утром к Эду пришел друг, и они, уединившись на кухне, о чем-то горячо спорили. Я плохо понимала причину размолвки: Эд открыл в ванной кран – шум воды перебивал голоса. Поняла только, что проблема была в паспортной фотографии – зависимый от социума, как никто другой, Эдик умудрялся соприкасаться с ним лишь тогда, когда в чем-то остро нуждался.
Однажды он позвонил ночью:
– Мне плохо.
Спросонья меня радовало лишь то, что звонок не поднял с постели хозяйку.
– Мне плохо, ты можешь приехать сейчас? – внятно повторил Эд.
Я вышла из подъезда минут через пять.
Около часа ночи Эдик встретил меня у своего дома в деловом и, как всегда, черном костюме. Видно было, что спать он еще не ложился.
– Садись в машину, через пару минут едем, – Эд не позволил мне говорить. Спросить: «Ты издеваешься? Что случилось?» и «Куда едем?» мне удалось только после того, как мы покинули пределы Москвы.
– Едем мы в Питер. Ничего не случилось. А, собственно, с чего ты взяла, что я издеваюсь? По-моему, я не похож на шута.
– Нет, но ты звонишь ночью, говоришь, что…
Эд резко остановил машину. Позвоночник уперся в изгиб сиденья. Даже при включенной печке тянуло холодом. Особенно стало неприятно, когда я поставила босую ногу на резиновый коврик.
Эдик не церемонился: я почувствовала резкое, глубокое и болезненное вторжение. Будто впервые: осознаешь, что происходит, и терпишь. Как мученица. Взять на себя грех – это из христианства: оправдывается страданиями за опороченных. К тому же, в глуши, в темноте, на окраине города была очевидна бессмысленность противодействия. Задевало другое: в тот момент мне пришло на ум, что я заслуживаю подобного обращения.
Эдик смотрел в глаза:
– Так пойдешь за меня замуж?
– Нет, – я сказала со злом, освобождаясь от его рук.
– Третий раз попросишь об этом сама, – Эдик рванул сцепление. Меня поразило, что его костюм нисколько не пострадал от нахлынувшей страсти.
Проехали мы не более километра.
– Я же сказала, останови.
Эд глянул вправо: хотел убедиться, что я не собираюсь глупить. Я и не собиралась. Мое тело, упругое и возбужденное, теперь само предлагало себя.
Эд исполнил просьбу со снисхождением.
– Ты пилигрим, – вряд ли я поняла, что он говорит правду.
Эдик всегда умело, словно специально, акцентировал внимание на моих слабостях. Но чем чаще он это делал, тем безнадежнее я привязывалась к нему.
Потом мы долго ехали молча. Будто в пустоте или пустыне. Я смотрела на звезды и представляла, как ищу новую работу после скандального увольнения.
Мы добрались быстро – еще было закрыто метро.
– Видишь вокзал? Поднимайся в зал ожидания, купи кофе, я скоро буду.
Я послушно открыла дверцу машины – лицо обжег колкий ветер. С трудом передвигаясь по льду, я побрела к зданию. Весь город походил на огромный каток – улицы, тротуары, дорожки лишь местами были прикрыты снегом, выпавшим ночью.
«А если Эд не вернется?» – эта мысль покинула меня только тогда, когда у лестницы на второй этаж я наткнулась на двух бомжих. Широко разбросав ноги, они полулежали, облокотившись о первую ступеньку: одна всласть отхаркивалась, затягиваясь вонючим дымом, другая ждала курева. Обе пренебрежительно смерили меня взглядом, просчитывая, стоит ли пропускать. Немыслимый город – даже бомжи в нем живут по своим законам: не опасаются нарядов милиции, не довольствуются пивными бутылками, кичатся язвами и не стесняются вшей. Они подходят к буфетчице, и та продает им водку или протягивает дольку лимона из недопитого чая. Новый пассажир вызывает у них интерес секунд на двадцать, потому что в их глазах – это мы чужаки – уличные.
Я с трудом нахожу силы, чтобы переступить через ноги, покрытые струпьями – достоевщина в чистом виде.
На втором этаже тоже «спектакль»: бомж толкнул спящего соседа, и тот щедро рассыпается бранью. Просыпаются остальные дворняги, образуя лагерь болельщиков и судей. Первые – оскорбленные – провоцируют, вторые уверенно угрожают. Только с появлением колченогого – высокого, крупного, одетого лучше основной массы бездомных – они замолкают, расползаясь, как тараканы при резко включенном свете. С первого взгляда понятно: явился главнейший.
Эд забрал меня часа через три.
– Думала, не приду?
– Думала. Где ты был?
– На Черной речке.
– Что?
– Не знаешь, где Пушкин стрелялся?
– Знаю.
– Хочешь, туда съездим?
– Нет.
– А чего хочешь? В Эрмитаж? Зимний? На Васильевский, может?
– Домой.
– Как скажешь.
Мы прошли мимо остановки трамвая. С перекошенных балконов свисали огромные сосульки, готовые рухнуть в любой момент вниз.
– Смотри, – я ткнула пальцем в лежащего на скамейке бомжа.
– Что? – не понял меня Эд.
Бомж смотрел в небо и замерзал. Наверное, ночью он видел те же звезды, на которые смотрела и я из окна Эдикиной машины…
У Эда не было постоянной подруги. Я поняла это, впервые очутившись у него дома. Были на крайний случай. Дом выдает – с евроремонтом ли, с видеотехникой, вычищенный до блеска – у мужчин, долго живущих без женщины, он будто выхолощен.
Мы сели в машину.
После этой поездки я рассказала об Эде Полине.
– Уголовник? – Полина долго молчала в трубку.
Чтобы избежать недоразумений, я настояла позвать в гости подругу. Эдик не пощадил ее самолюбия.
– Думаешь, Москве тебя не хватает? – спокойно спрашивал он у Поли. – Сколько стоит честный актерский труд выпускников киевских вузов?
Особенно его интересовало, почему Украина думает, что она – мать городов русских.
Полина ушла через час, сообщив, что ей срочно нужно к ребенку.
– С кем ты живешь? Он же урод! – выслушивала я ее вопли. – Знаешь, что мне Эдик твой предложил, пока ты в комнате фильм искала? – Полина свирепела с каждой фразой все больше. – Замуж предложил! Ребенка захотел от меня!
Я не сомневалась, что Полина не сочиняет. Лица для Эдика не имели значения. Была четкая схема жизни, в которую, как в капкан, угождали те, кто больше всего совпадал с ее трафаретом.
– Ксения! Что ты молчишь? Я надеюсь, ты сегодня же дашь ему от ворот поворот?
Полина была пуглива не только в силу характера. До переезда в Москву прежний супруг хотел отнять у нее Богдана. Он оплатил поимку жены с сыном. Полине месяц приходилось скрываться у подруг и родителей. Сначала желание ехать в Москву совпало с борьбой за Богдана, а потом превратилось в бегство. Полина поняла: только за пределами государства сможет сберечь для себя сына. В Москве преследование прекратилось, но пережитый стресс заметно повлиял на подвижную психику – теперь Полина всегда озирается и во всем видит опасность.
– Посмотрим, – я не смогла сказать, что уже влюблена в Эда.
– Подружка, ты деградируешь, – Полина бросила трубку.
Киев встречал ремонтом вокзала, я с трудом нашла выход. С рекламных щитов улыбались пышногрудые молодички в национальных венках и костюмах. Пришедший поезд метро – весь, как этикетка украинской водки «Первак», – красный, в огурчиках.
Я решила поехать через метро «Дружба народов», а там – на автобус – и дома. Я долго избегала этого маршрута, он напоминал мне о причинах, которые заставили меня уехать из Киева. Вот и ранее ненавистная остановка. Справа от нее Выдубицкий монастырь.
Дома – праздник: пахнет жареным мясом, на подоконнике стоит торт. Мама режет овощи на салат, а отец стремительно перемещается от кухни до гостиной, от гостиной до кухни, то забывая взять нужную тарелку, то пытаясь отнести еще не готовое к подаче блюдо.
Папа не умеет ждать, а от желания сделать все побыстрее создает вокруг себя суету. В такие моменты важно его чем-то занять, и мама поручает отцу купить хлеб. Папа собирается в магазин неохотно, но быстро и по-деловому. Сталкиваюсь с ним в прихожей и, обнимая, вижу через открытую дверь гостиной, как скатерть с правой стороны стола дала крен и, выгнувшись, топорщится на углу. Значит, первым поручением мамы была сервировка стола. Я улыбаюсь и с пониманием хлопаю отца по плечу.
– Что тебя в Москве держит? – возвращается мама к вечному разговору. – Только деньги за квартиру выбрасываешь.
Вот уже семь лет я не знаю, как ответить ей на этот вопрос.
Вообще, семья – удивительная инстанция, в ней каждый прячет свою несостоятельность – и прежде всего социальную. А социум, как одухотворенная плазма, принимает всех: в том числе и людей, для брака не созданных. Моих родителей он приютил из жалости, таких семей много: они живут, наблюдая за миром, они уязвимы больше других и умеют прощать, потому что не в состоянии ненавидеть. Острее других они нуждаются в идеале, но, однажды обманутые, не сознаются, что сделали неправильный выбор, а потом, если позволяет политика, прячутся за религией, если нет – проповедуют нигилизм. Они занимаются сексом, чтобы не испытывать неловкости от взаимного присутствия и заводят ребенка, как правило, одного, чтобы внушить ему собственные иллюзии.
Плодородная земля Малороссии странно переплела генеалогические ветви моих предков. Поляки-дворяне по линии папы бежали от гражданской войны через Питер, а мамины, опять же католики, – от восстания в Польше. Украина скрестила, приютила, но и будто растворила в себе породу обоих родов: бабка отца вышла замуж за мужика, а наследие по линии мамы разбазарило время и тринадцать детей моей прабабушки.
– Как съездила? – не успела я и переодеться, как позвонила Полина.
– Ты словно с биноклем. Следишь, что ли?
– Разведка.
– Ясно. Поль, спешу, забежала сумку забросить. Шефа едем встречать. Колька ждет. Созвонимся, о’кей?
– Ничего не знаю, вечером ты у меня. Возражения, родная Ксения, не принимаются. Я жду нужного тебе человека, – Полина поставила ударение на каждом слове последнего предложения.
– Так а кого ждем?
– После работы ты у меня. Иначе можешь забыть номер моего телефона. Я не шучу.
Спорить мне было некогда.
С Полиной дружить тяжело не только из-за ее эксцентричности. Желание «трахнуть всю Москву» – это она сама так говорит – не покидает ее никогда, даже в моменты глубокой депрессии. Она приехала стать певицей, и хотя ее можно считать хорошо устроенной – ночные клубы, где она выступает, дают неплохие доходы, мечтает она о другом – отсюда и нервы, и взвинченность. Второй год практически безрезультатно – так считает Полина. И не дай Бог ей сказать, что она везучая. Полину устраивает только большая сцена, а иначе смысл-то какой? Поэтому каждое ее движение – это трата жизненного потенциала, и оно должно быть не бесцельным, а шагом, который сократит ее путь к славе.
Проехали Химки. За окном – то заснеженные ели, то козырьки остановок. Стрелка спидометра, вздрагивая, движется по часовой. Уже минут через двадцать покажется Клязьма, а там и аэропорт. Я просматриваю документацию. Наш шофер Колька хохмит – не столько водительская привычка, сколько натура. Кольку любят, он от природы комик.
– Ко мне айзеры сегодня в метро лепились, прикинь, Колька.
– Чего же тут удивительного, ты девка видная.
– Так им дай Бог по пятнадцать, если не меньше. А наглые! Раньше айзеры только на рынках были, и то взрослые.
– Плодитесь и размножайтесь. Процесс всем нравится, не только русским.
– Вот именно. Помню, как только приехала, такую трогательную картину на ВВЦ видела: мамаша свое армянское чадо выгуливала, фонтаны ему показывала. А ему года три, может, четыре. Такой аккуратненький весь, в костюмчике-троечке – видно, на заказ делали, а глазки-бусинки – сплошное умиление. Выросли, блин.
– Новое поколение выбирает Ксюху!
– Хватит прикалываться. Между прочим, это уже серьезно. И главное, чувствуют себя как дома!
– Так они и дома. Вот у тебя хата есть? – Нет, а у них есть. И квартира, и дача, и школа – все на мази. И кто после этого хозяин? Они или вон хохлома ваша? – Колька машет в сторону обочины.
– В смысле хохлома?
– Девки ваши украинские. Вон парами на съем стоят, видишь сколько – бери не хочу, как коров нерезаных.
– Не все же, кто с Украины приезжает, здесь оказывается.
– Все. Жить-то хочется, хочешь жить – умей е… ться. Ты еще устроилась ничего, а в основном – на стройке ваши, с вонючим мясом на рынке Киевском. Ну, или здесь. Вон смотри, ножки какие, ничего себе. Может, притормозим? До рейса еще сколько времени, а, Ксюх?
– Коль, ты при мне больше такого не говори, ладно?
– Не понял.
– Так. Обидно. Опять не понял?
– Не понял.
– За родину обидно, говорю.
– Я ж не тебя имел в виду. Подумаешь. Обиделась, тоже мне.
Полина гостеприимна – в этом ей не откажешь. Блинчики с творогом и борщ – самое скромное меню для приема гостей.
– Надо салатиков еще нарезать, и селедочку приготовила. Давай я тебе фартук дам, а ты быстро порежешь, давай? – такое радушие с головой выдает в Поле национальность. Кроме того ее смех: нарочито-громкий, на низких частотах, исподволь пробуждающий плотский инстинкт – самка, заботящаяся о продолжении рода.
– Что твой муженек? Не звонил больше?
– Ксения, дорогая, если бы не люди, с которыми я тебя, считай, насильно свожу… – она сделала паузу. – Отвадили, слава Богу. Ой, не знаю, надолго ли.
– Рассказывай, кого ждем.
– Не объявился еще Эдик твой?
– Дался тебе Эдик. При чем тут Эдик? Полина, пойми…
– Ксюха, мое терпение лопнуло! Хватит фигней страдать.
– Кто тебе сказал, что я страдаю?
– А что ты делаешь?
– А что ты предлагаешь?
– Во всяком случае не на Эдика рассчитывать и не за копейки на твоей работе корячиться с утра до ночи. Не переживай, я что-то придумаю. Не веришь? Посмотришь. Ты меня еще плохо знаешь.
Полина уверена, что я достойна и лучшей участи, и больших денег. Ее б воля, она бы только об этом и говорила, но на кухню зашел Богдан, и Полина вынуждена прервать разговор. Благо, ее внимание настолько рассеяно, что, мгновенно переключаясь на новый объект, она тут же забывает о предыдущем.
– Давай, сын, прочти тете Оксане стих, который мы вчера с тобой выучили. Давай, давай, чего ломаешься, – Полина никому не прощает медлительности.
– Не буду, – Богдан супит брови.
– Чего это ты не будешь? Стесняешься, вроде первый раз тетю Оксану видишь.
– Не стесняюсь. Сама говорила.
– Что говорила?
– Чтобы по-украински больше не слышала.
Я начинаю догадываться, в чем причина их препирательств. После переезда в Москву Богдан в одночасье лишился не только опеки бабушек, но и привычного окружения сверстников. Москвичи-погодки не пустили его в свой круг, и Полина решила, что основная причина детского неприятия в южном акценте, – она запретила Богдану разговаривать по-украински даже в быту. Полина и сама бы с радостью забыла об ущербном, с ее точки зрения, происхождении, если бы иногда именно оно не реабилитировало ее в собственных глазах, позволяя рассуждать об ограниченности русскоязычных. Потому под рюмочку она не отказывала себе в желании затянуть народную, а на досуге – разучить с сыном что-то из украинской лирики.


