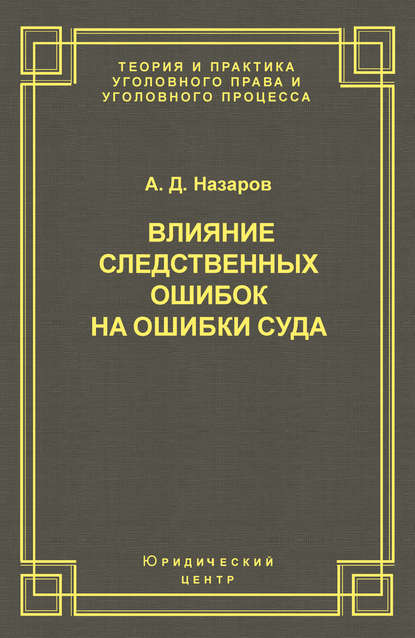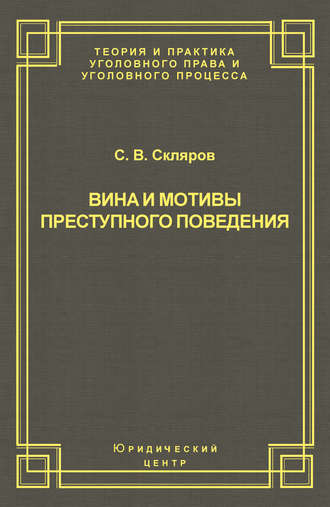
Полная версия
Вина и мотивы преступного поведения
Рассуждая о неприемлемости применения формулы сознания лицом общественной опасности совершаемых им действий (бездействия), необходимо рассмотреть вопрос о возможности использования термина «общественная опасность» для определения характера последствий. Основным разграничением преступления от иных правонарушений является, как было установлено выше, не характер совершаемых виновным действий, а характер последствий, наступивших или могущих наступить в результате действий лица. При этом возможны два варианта описания характера последствий действий лица: первый – формально-определенный, второй – оценочный. Формально-определенный вариант описания последствий при совершении лицом преступления следует из позиции, в соответствии с которой термин «общественная опасность» предлагается заменить термином «противоправность». В этом случае описание характера последствий действий лица при совершении им преступления выглядит как «предвидение причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам». При втором варианте речь идет о предвидении лицом общественно опасных последствий своих действий.
Общественная опасность последствий поведения лица заключается в причинении вреда охраняемым уголовным законом интересам, поэтому при доказывании правоприменителем факта, что лицо предвидело общественно опасный характер своих действий, всегда придется доказывать, что оно предвидело, что его действия причинили или могли причинить вред охраняемым уголовным законом интересам. Таким образом, общественно опасные последствия поведения всегда причиняют вред охраняемым уголовным законом интересам. А всегда ли причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам свидетельствует об общественной опасности последствий действий лица? Представляется, что на данный вопрос следует ответить отрицательно.
Охраняемые уголовным законом интересы представляют собой не что иное, как различные виды объекта преступления, т. е. определенные общественные отношения, охраняемые уголовным законом, общий перечень которых изложен в ст. 2 УК РФ. По признаку видового (группового) объекта построены главы Особенной части УК РФ. Нередко в УК РФ можно встретить преступления, имеющие сугубо «личный» характер, когда говорится об общественно опасных последствиях, т. е. о нарушении общественных интересов говорить можно с большой натяжкой. Не случайно уголовное дело по факту совершения некоторых преступлений против личности может быть возбуждено исключительно по заявлению потерпевшего и по его же заявлению может быть прекращено (побои, оскорбление). Поэтому подобные преступления не влекут за собой общественно опасных последствий, но в то же время нарушают интересы, охраняемые уголовным законом.
Рассуждая о предвидении лицом, что его действия причиняют или могут причинить вред охраняемым уголовным законом интересам, следует остановиться на вопросе о характере такого вреда. Вред, наступивший в результате совершения лицом преступления, делится на два вида. Первый – материальный вред, когда действия преступника влекут за собой «видимые» изменения в объективной действительности (смерть, причинение вреда здоровью, материальный ущерб и т. п.). Такая разновидность вреда является неотъемлемым признаком преступлений с материальными составами. Второй вид вреда, причиняемый преступником, касается нарушения им общественных отношений – некой взаимосвязи между людьми, урегулированной нормами права, в нашем случае – уголовного. Следует отметить, что при совершении любого преступления (с формальным либо материальным составом) всегда причиняется вред объекту преступления – общественным отношениям в определенной сфере, иначе говоря, охраняемым уголовным законом интересам. Материального же (видимого) вреда может и не быть. Это обстоятельство и обусловливает существование в уголовном праве преступлений с материальными и формальными составами. Для того чтобы найти универсальную, т. е. подходящую к преступлениям как с материальными, так и с формальными составами, формулу вины, необходимо принять во внимание второй вид вреда, который имеет место при совершении любого преступления. Такой подход позволит признать, что преступления с формальными составами могут совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом. Это позволит избежать многочисленных дискуссий о субъективной стороне преступлений с формальными составами.[41]
Осознание лицом факта, что его действия нарушают определенные правила поведения, является одним из обязательных элементов умышленной формы вины. Поскольку в настоящем исследовании предлагается отказаться от формулирования волевого момента вины, деление умысла на прямой и косвенный следует производить по второму обязательному элементу умышленной формы вины – по степени предвидения лицом последствий своих действий.
Прежде всего необходимо отметить, что в действующем УК РФ законодатель предпринял попытку раскрыть степень предвидения лицом последствий своих действий (бездействия), включив в понятие умышленной формы вины предвидение лицом неизбежности или возможности наступления данных последствий. Однако сочетание новых критериев определения степени предвидения лицом последствий своих действий и традиционных, составляющих волевой момент вины, критериев нельзя признать удачным.
Исходя из содержания ст. 25 УК РФ, можно сделать вывод, что при прямом умысле лицо при желании наступления определенных последствий может предвидеть как неизбежность, так и возможность их наступления. Таким образом, возможны две формулы прямого умысла:
1) лицо предвидит неизбежность наступления последствий своих действий и желает их наступления;
2) лицо предвидит возможность наступления последствий своих действий и желает их наступления.
Следует отметить, что в теории уголовного права нет единства мнений по вопросу о том, существует ли при прямом умысле только лишь неизбежность предвидения лицом последствий своих действий, либо наряду с неизбежностью может иметь место и возможность такого предвидения.[42]
Для определения указанных разновидностей прямого умысла прежде всего необходимо уяснить сущность терминов «неизбежность» и «возможность», раскрыть, что означает желание наступления последствий.
С точки зрения этимологии, неизбежность – это то, чего невозможно избегнуть, что нельзя предотвратить.[43] Возможность – это то, что может произойти; то, что допускается; средство, условие, обстоятельство, необходимое для осуществления чего-нибудь.[44] Желание в психологии означает отражающее потребность переживание, перешедшее в действенную мысль о возможности чем-либо обладать или что-либо осуществить. Желание обостряет осознание цели будущего действия и построения его плана. Желание характеризуется достаточно отчетливой осознанностью потребности.[45]
Следовательно, желание лица наступления конкретных последствий своих действий означает, прежде всего, осознание им конкретной цели поведения. В теории же уголовного права и практике его применения под желанием лица наступления определенных последствий фактически понимается предвидение им неизбежности их наступления в силу того, что виновный совершает все, по его мнению, необходимые действия для наступления конкретных желаемых им последствий. Не случайно, например, при разграничении убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также разграничении покушения на убийство и причинения вреда здоровью Пленум Верховного Суда Российской Федерации предлагает учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений.[46] Учет указанных обстоятельств позволяет установить отнюдь не осознание преступником определенной потребности, лежащей в основе его действий, а сознание им того, что совершаемые действия должны повлечь за собой смерть потерпевшего, т. е. сознание достаточности совершаемых действий для наступления конкретного последствия, что означает предвидение лицом неизбежности его наступления.
Таким образом, с точки зрения действующей уголовно-правовой теории желание наступления определенных последствий идентично предвидению неизбежности наступления данных последствий. Поэтому если убрать из формулы вины волевую составляющую прямого умысла, то ничего не изменится, а институт вины станет более понятным, так как будет иметь четкую систему построения.
Аргумент, согласно которому преступник всегда может сослаться на то, что результат его действий не представлялся ему неизбежным, а только вероятным, можно отбросить, так как речь в данном случае идет не об объективной оценке обстоятельств совершенного преступления, а о мотивировке, т. е. попытке лица объяснить свои действия, выставив себя в более выгодном свете, и тем самым избежать заслуженной ответственности. Кроме того, не следует отбрасывать и здравый смысл в оценке общеизвестных вещей. Если лицо, столкнувшее потерпевшего с 20-го этажа, утверждает, что не предвидело неизбежности его смерти, то либо оно лукавит, либо страдает расстройством психики, что не позволяет ему адекватно оценивать свои действия.
Неизбежность наступления последствий означает, что в результате совершения определенных действий при обычных условиях наступает конкретное последствие (либо несколько последствий в альтернативе), являющееся закономерным итогом этих действий. В то же время имеют место ситуации, когда, например, большая доза яда в силу особенностей организма потерпевшего не оказывает ожидаемого преступником действия, а это свидетельствует лишь о совершенном покушении на убийство, но не о том, что в данной ситуации лицо предвидит лишь возможность наступления смерти, иначе его действия следовало бы квалифицировать по фактически наступившим последствиям как причинение вреда здоровью.
Интересный пример приводит в своем исследовании А. Н. Трайнин, когда с целью убийства одного из рабочих, ремонтирующих здание на уровне девятого этажа, преступник подрезает канат кабины, в которой помимо него находится еще один рабочий. В результате наступает гибель обоих.[47] Совершенно верно в данном случае утверждение, что преступник действовал с прямым умыслом на убийство двух лиц, так как предвидел неизбежность наступления их смерти. Хотя виновный утверждает, что желал убить одного рабочего, а смерть второго лишь допускал, формально это свидетельствует, что указанное преступление в отношении одного рабочего совершалось с прямым умыслом, а в отношении другого – с косвенным. Однако такой подход к оценке действий преступника представляется неверным, поскольку, если бы рабочим в результате подрезания каната по счастливой случайности был причинен вред здоровью, то действия виновного мы должны были квалифицировать как покушение на убийство и как причинение вреда здоровью по фактически наступившим последствиям, что не отражало бы опасности совершенного преступления.
Подводя итог, можно утверждать, что включение законодателем в формулу прямого умысла предвидения лицом возможности наступления последствий своих действий противоречит существу его волевого момента – желания наступления последствий, так как возможность – это то, что допускается, но не желается.
Предвидение возможности наступления последствий своих действий при косвенном умысле, как следует из диспозиции ч. 3 ст. 25 УК РФ, соотносится законодателем с сознательным допущением лицом этих последствий либо с безразличным к ним отношением. Как уже указывалось, возможность – это то, что допускается. Таким образом, если лицо предвидит возможность наступления вредных последствий своих действий, то оно тем самым допускает эти последствия. В отличие от предвидения неизбежности наступления последствий, когда лицо сознает достаточность совершаемых действий для наступления конкретного последствия, при предвидении возможности наступления последствий лицо предвидит лишь абстрактную возможность наступления какого-либо последствия в альтернативе с другими могущими наступить последствиями. В цель поведения лица в этом случае не включено конкретное последствие (ряд конкретных последствий в альтернативе) его действий. Цель поведения носит абстрактный характер. По существу, при предвидении лицом возможности наступления последствий своих действий невозможно назвать его умысел как определенный, при котором виновный предвидит конкретное последствие. Косвенный умысел всегда характеризуется либо альтернативностью возможных последствий, либо их неопределенностью.
Безразличное отношение лица к последствиям своих действий, включенное законодателем в формулу косвенного умысла, носит иной оттенок характеристики субъективных процессов, протекающих в его сознании. Так, этимологическое значение слова «безразличный» определяется как равнодушный, безучастный либо не имеющий существенного значения, не представляющий существенного интереса.[48] Отсюда характеристика отношения лица к последствиям своих действий как безразличного скорее отражает эмоциональное состояние психики субъекта, но не его волю.
Безразличное, равнодушное отношение к последствиям своих действий может быть как при желании лицом их наступления (особенно явно это проявляется при альтернативном умысле, когда для виновного не представляет существенного интереса, какое именно из желаемых последствий наступит), так и при допущении лицом возможности наступления последствий. Фактически безразличное отношение лица к последствиям своих действий характеризует в какой-то мере степень желания или допущения этих последствий. Следовательно, как при прямом, так и при косвенном умысле возможно усмотреть безразличное отношение лица к последствиям своего поведения, а значит, безразличное отношение к последствиям не может служить единственным критерием для разграничения прямого и косвенного умысла.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
– включение в формулу умысла сознания лицом общественной опасности своих действий неудачно с точки зрения системности построения института вины, более целесообразно говорить о сознании лицом, что его действия (бездействие) нарушают определенные правила поведения;
– формулу «предвидело наступление общественно опасных последствий» целесообразно заменить на «предвидело причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам», что позволит унифицировать подходы к определению субъективной стороны в преступлениях с материальными и формальными составами;
– с одной стороны, предвидение возможности наступления последствий при прямом умысле не совпадает по содержанию с желанием их наступления; с другой – желание наступления последствий идентично по своему содержанию предвидению неизбежности их наступления;
– допущение последствий при косвенном умысле полностью совпадает по содержанию с предвидением возможности их наступления; в то же время безразличное отношение к последствиям может иметь место как при предвидении неизбежности их наступления, так и при предвидении лицом такой возможности.
Учитывая сделанные выводы, предлагается ст. 25 УК РФ изложить в следующей редакции:
Статья 25. Преступление, совершенное умышленно
1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.
2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало, что его действия (бездействие) нарушают правила поведения, и предвидело неизбежность причинения вреда охраняемым настоящим Кодексом правам и интересам.
3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало, что его действия (бездействие) нарушают правила поведения, и предвидело возможность причинения вреда охраняемым настоящим Кодексом правам и интересам.
§ 3. Проблемы законодательной регламентации неосторожной формы вины
Основные различия неосторожной и умышленной форм вины, исходя из их законодательного описания (ст. 25, 26 УК РФ), сводятся к следующему:
1) при неосторожной форме вины в виде легкомыслия лицо:
– не осознает характера своих действий (бездействия);
– не желает, не допускает наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но, предвидя возможность их наступления, самонадеянно без достаточных к тому оснований рассчитывает на предотвращение этих последствий;
2) при неосторожной форме вины в виде небрежности лицо:
– не осознает характера своих действий (бездействия) и не предвидит возможности их наступления, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия;
– какое-либо отношение лица к характеру своих действий (бездействия) и к возможным последствиям полностью отсутствует.[49]
Прежде всего обращают на себя внимание некоторые небесспорные моменты в законодательном определении неосторожной формы вины. Так, при легкомыслии лицо предвидит возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но при этом не сознает характера своих действий (бездействия). Между тем, как уже отмечалось, осознание лицом общественной опасности совершаемых им действий (бездействия) при умысле в теории уголовного права, как правило, раскрывается через предвидение лицом возможности причинения вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям[50] и либо выступает элементом предвидения вредных последствий деяния, либо полностью с ним отождествляется. Такая позиция представляется абсолютно обоснованной с позиции психологии поведения: если лицо, совершая какие-либо действия, предвидит их вредные последствия, значит, оно сознает вредность совершаемых им действий. Другими словами, если лицо предвидит возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), то оно, безусловно, сознает их общественно опасный характер. Данный вывод можно полностью отнести и к легкомыслию. Поэтому, несмотря на четко определенную законом формулу легкомыслия, вопрос о содержании неосторожной формы вины не лишен дискуссионности и по-разному трактуется в теории уголовного права: одни криминалисты считают, что при легкомыслии лицо не может осознавать общественно опасный характер своих действий (бездействия)[51]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См., например: Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 1. Л., 1968. С. 406–407; Советское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Г. А. Кригера и др. М., 1988. С. 124; Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и др. М., 1993. С. 155; Назаренко Г. В. Русское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 2000. С. 85.
2
См., например: Лунеев В. В. Субъективное вменение. М., 2000. С. 10–12; Нерсесян В. А. Ответственность за неосторожные преступления. СПб., 2002. С. 10.
3
Лунеев В. В. Указ. соч. С. 11.
4
См., например: Советское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Г. А. Кригера и др. М., 1988. С. 124; Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамовой. М., 1997. С. 183.
5
См., например: Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 1. Л., 1968. С. 406–407; Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и др. М., 1993. С. 155; Назаренко Г. В. Указ. соч. С. 85.
6
Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М., 1946.
7
Маньковский Б. С. Проблема ответственности в уголовном праве. М., 1949.
8
Утевский Б. С. Вина в советском уголовном праве. М., 1950.
9
Маньковский Б. С. Указ. соч. С. 115.
10
См., например: Советское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Г. А. Кригера и др. М., 1988. С. 124.
11
Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 2000. С. 223.
12
Советское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Г. А. Кригера и др. М., 1988. С. 125.
13
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. Б. В. Здравомыслова. М., 2000. С. 157.
14
Лунеев В. В. Указ. соч. С. 12.
15
Якушин В. А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. Тольятти, 1988. С. 122.
16
Лунеев В. В. Указ. соч. С. 12.
17
См., например: Чучаев А. И. Безопасность железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Саратов, 1988. С. 78; Трухин А. М. Интеллектуальные критерии разграничения форм вины в советском уголовном праве // Вестник Моск. ун-та. Сер. «Право». 1976. № 1. С. 78; Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж, 1974. С. 64; Угрехелидзе М. Г. Проблема неосторожной вины в уголовном праве. Тбилиси, 1976. С. 65–68.
18
См., например: Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2003. С. 112–113; Гринберг М. С. Преступное невежество // Правоведение. 1989. № 5. С. 77; Нерсесян В. А. Некоторые проблемы неосторожной формы вины // Сов. гос-во и право. 1989. № 3. С. 111; Утевский Б. С. Указ. соч. С. 271.
19
Миньковский Г. М., Петелин Б. Я. О понятии вины и проблемах ее доказывания // Гос-во и право. 1992. № 5. С. 58; Лунеев В. В. Указ. соч. С. 48; Волков Б. С. Детерминистическая природа преступного поведения. Казань, 1975. С. 39, 61; Квашис В. Е., Махмудов Ш. Д. Ответственность за неосторожность. Душанбе, 1975. С. 18–19; Керимов Д. А. Психология и право // Гос-во и право. 1992. № 12. С. 15.
20
См., например: Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957; Кузнецова Н. Ф. Значение преступных последствий. М., 1958; Прохоров В. Д. Преступление и ответственность. Л., 1984; Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 1999.
21
См., например: Никифоров Б. С. Субъективная сторона в формальных преступлениях // Сов. гос-во и право. 1971. № 3; Трофимов Н. И. К проблеме неосторожной вины в формальных составах преступлений // Проблемы эффективности повышения борьбы с преступностью. Иркутск, 1983; Лунеев В. В. Субъективное вменение. М., 2000. С. 41; Утевский Б. С. Указ. соч. С. 237–239; Ткаченко В. Вина: понятие, виды // Teise-Право. Вильнюс, 1989. Т. 22. С. 26.
22
См., например: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 2-е изд., изм. и доп. / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1997; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А. В. Наумов. М., 1996; Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 2001; Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. Б. В. Здравомы-слов. М., 1996; Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. М., 1997; Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. А. И. Рарога. М., 1998; Лунеев В. В. Субъективное вменение. М., 2000. С. 39.
23
См., например: Иванов Н. Умысел в уголовном праве России // Российская юстиция. 1995. № 12.
24
См., например, соответствующие разделы приведенных в сносках настоящей работы комментариев к УК РФ и учебников по Особенной части уголовного права.
25
См., например: Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. М., 1969; Фефелов П. А. Механизм уголовно-правовой охраны (основные методологические проблемы). М., 1992; Ковалев М. И. Понятие преступления в советском уголовном праве. Свердловск, 1987; Ляпунов Ю. И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права. М., 1989; Махоткин В. П. Общественная опасность преступления. М., 1991.