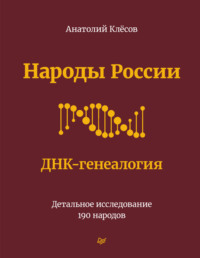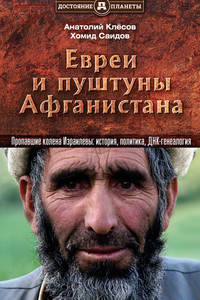Полная версия
Интернет: Заметки научного сотрудника

Анатолий Алексеевич Клёсов
Интернет: Заметки научного сотрудника
1. Короткое вступление. Немного о жизни
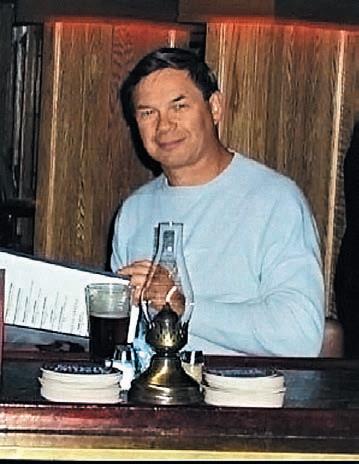
Мы стоим на балконе. Мы – это президент Американской биржи, президент нашей компании и собственно «мы» – сама наша компания, все девять человек. Мы все помещаемся на этом балкончике. Внизу, у наших ног, и перед нами – биржа. Десятки панельных компьютеров на нескольких уровнях, от «пола» до потолка, сотни трейдеров, шум, гул, выкрики. Биржа начала работу, понедельник, 22 сентября 2003 года. Команду к началу работы дали мы, наша компания, пятью ударами бронзовым молотком по бронзовой же наковальне. Ударами по «колоколу», здесь это так называется.
Потом, сойдя с балкона, мы шли между рядами трейдеров, которые вставали из-за своих компьютеров при нашем приближении и аплодировали. Мы смущенно аплодировали в ответ. Надо же куда-то руки девать…

Было бы глупо, да и совершенно неправильно, назвать это пиком своей жизни. Это просто один из моментов, которые интересно пережить. Один из многих эмоциональных подъемов, которые делают жизнь по большому счету разнообразной и неповторимой. Сегодня – открытие работы биржи в Нью-Йорке, по приглашению самой биржи. Раньше – десятки других, совершенно разных и тоже в своей комбинации неповторимых, образующих многомерную структуру того, что называется жизнь. В моем случае – жизнь научного сотрудника.
2. МГУ. Много лет назад
В ноябре 1963 года я был проездом в Москве и решил посмотреть на высотное здание МГУ на Ленинских горах. В том году я окончил вечернюю школу, куда перешел из обычной, внезапно (для меня) ставшей из десятилетки одиннадцатилеткой. Этого я вынести не мог. Я был уже в девятом классе и не мог дождаться, когда закончится эта не любимая мной учеба. Учился я весьма средне, за исключением двух предметов – химии и русского языка. По ним были пятерки. По всем остальным – тройки. Мне не нравилась школьная дисциплина в нашем военном городке, не нравилось, что на танцах, которые проводились в нашем спортзале, постоянно находится завуч и останавливает танцы, если кто-либо танцует, по ее понятиям, неправильно. Твист у нас был запрещен. Равно как и всё остальное, кроме танго и вальса. Короче, я не мог дождаться окончания десятого класса, до чего оставался ещё целый год. И вдруг – одиннадцатилетка! Ещё год мучиться!
Я уже в седьмом классе так настрадался, что хотел из школы уйти и обсуждал с родителями вариант поступления в техникум учиться на киномеханика. Фотографировать я любил. Но родители все-таки уговорили закончить десятилетку, а там видно будет. Может, и в кинотехникум. Но перспектива одиннадцатого класса мне категорически не понравилась. И я ушел в вечернюю школу, и со мной еще двенадцать человек из моего и параллельного класса. Так в пятнадцать лет я начал трудовую деятельность. Это не совсем согласовывалось с трудовым законодательством, но – военный городок, все свои.
В своей школе я любил химию и даже записался в химический кружок. Мне нравились старые склянки с притертыми пробками, порошки разного загадочного цвета и отлива и тот самый неповторимый сложный запах у дверей нашей школьной химической лаборатории. И еще я любил писать сочинения, по ним получал только пятерки. Но я всегда выбирал свободные, или вольные, темы. На заданную тему по литературным персонажам писать не любил. Было ощущение, что я читаю как-то по-другому, и в моем мире Печорин, Базаров и даже Вера Павловна дружили друг с другом и часто вели любопытные разговоры, которые не подходили под заданные темы сочинений по конкретным произведениям.
Так вот, мы группой из тринадцати человек ушли в вечернюю школу – ни одной, кстати, девочки, – и из нас организовали отдельный класс, чтобы не смешивать с солдатами и сержантами, которые и являлись основным контингентом вечерней школы в военном городке Москва-400, он же десятая площадка, он же жилая зона ракетно-космического полигона Капустин Яр. Сам полигон раскинулся на десятки, а по большому счету и на сотни километров в Астраханской области. По мысли учителей вечерней школы, наша подготовка была значительно сильнее, чем тех солдат и сержантов, поэтому и смешивать нас ни к чему. Была еще одна причина: в вечерней школе оказались учительницы, жены офицеров, которые (как офицеры полигона, так и жены) недавно закончили МАИ, МВТУ, МФТИ и прочие сильные институты, и мы, новый класс, для них были просто находкой, чтобы хотя бы немного вернуться к делу, которому их учили. На нас отыгрывались, в основном по школьным естественным дисциплинам. К тому же в вечерней школе к нам относились как к взрослым людям, не как это было в дневной. Нам это нравилось.
Но поскольку программа нашей дневной школы в ходе девятого класса уже отстала от программы десятилетки, для перехода в вечернюю мы должны были сдать пропущенные дисциплины по целому учебнику. Это было принципиально новым. Все девять классов мы учили по чуть-чуть, по параграфам, максимум по главам. А тут нужно было сдать материал по учебнику целиком – «Основы дарвинизма», «Астрономия», «Зоология», «История СССР» и еще какие-то. Плюс математика и физика. И тут я впервые в жизни вошел во вкус учебы. Оказалось, что схватывать учебник целиком гораздо интереснее, чем учить по параграфам. И сдавать экзамен интереснее, чем отвечать на уроке. Оказалось, что в азарте такой учебы можно просидеть за учебником всю ночь и даже не захотеть спать.
В общем, я сдал все вступительные материалы в вечернюю школу на все пятерки и закончил школу тоже на все пятерки. Мне захотелось учиться и дальше. Я вошел во вкус.
И вот, когда я был проездом в Москве, меня потянуло посмотреть на МГУ. Один мальчик с нашего полигона после окончания школы год назад поступил в МГУ, на факультет ИВЯ (Институт восточных языков, ныне Институт стран Азии и Африки), и стал среди наших учеников и их родителей легендой. Наши обычно поступали или в Волгоградский политехнический, или в военные академии. Некоторые дерзали в МАИ или МИФИ, но все равно это не легенды. А вот МГУ – это легенда. Может, потому что МГУ – это иностранцы, а иностранцы на нашем полигоне были вроде как внеземные пришельцы. Другой мир.
С Курского вокзала приехал на станцию метро «Университет» и нашел остановку автобуса, который идет до МГУ. Там стояли молодые ребята и девушки, некоторые с тетрадками и книжками в руках, с папками и портфелями. Явно студенты. Они небрежно перекидывались фразами, смеялись или читали свои тетрадки, а у меня перехватывало дыхание. Они учатся в МГУ! А с виду – ничего особенного. Я бы на их месте, наверное, каждую секунду осознавал значимость этого факта! И ходил бы с высоко поднятой головой, всем давая понять, что я УЧУСЬ В МГУ.
Подошел автобус, я почтительно пропустил всех студентов, с трудом высвободился из перехвативших меня тугих дверей – нечего варежку разевать – и через несколько минут, обмирая от восторга, стоял на площади перед широкими ступенями и, задрав голову, смотрел на шпиль главного здания МГУ. Потом ноги сами понесли влево, на химический факультет. Наверх, по широким мраморным ступеням. Вхожу – тот же знакомый аромат химии! Огромный холл-вестибюль, весь увешанный плакатами, стенгазетами, объявлениями. И все – захватывающе интересно. Второй этаж – огромные аудитории, куда там кинозалу! Таблички – Большая химическая аудитория, Северная химическая, Южная… Заглянул в щелку двери – аудитория трехэтажной высоты, до самого верха – гигантская доска, сплошь исписанная, как же это они достают на такую высоту? А, она же электрическая, сама наверх ползет, вон лектор на кнопку жмет…
Решено! Буду здесь учиться, чего бы это ни стоило. Теряю время, надо немедленно обратно, домой, и lernen, lernen und lernen. Правда, и arbeiten тоже, поскольку я – фотокинооператор кинофотолаборатории в/ч 74322. Третья площадка.
3. Наука на чердаке, или Влияние времени дня на кинетику химической реакции
Прокручиваем ленту времени на пятнадцать лет вперед. Я – доктор химических наук, занимаюсь ферментативным синтезом антибиотиков пенициллинового ряда. И не только этим. Я еще не знаю, что за это дело через шесть лет моя группа получит Государственную премию СССР. Группа, но не я. Я в том же году тоже получу Госпремию СССР по науке, но за другую разработку – за физико-химическую теорию специфичности ферментативных реакций и за биотехнологию ферментативного превращения целлюлозы в сахара. Так получилось, что обе разработки были выдвинуты на Госпремию в одном и том же году, а две премии одновременно получать нельзя. Надо выбирать. Нет чтобы в два разных года… Так вот антибиотики. Чтобы новый антибиотик синтезировать, надо сначала пенициллин гидролизовать, а затем по образующейся связи присоединить новую группу с помощью того же фермента, который называется пенициллинамидаза. Он и гидролизует, он же и синтезирует. Только надо знать, в каких условиях (кислотность, температура, концентрации реагентов) идет гидролиз, а в каких – синтез. Пока занимаемся гидролизом, чтобы изучить сам процесс и подобрать оптимальные условия его проведения.
Моя небольшая группа занимается этим в маленькой каморке на чердаке корпуса «А», он же Межфакультетская лаборатория биоорганической химии МГУ. Остальные сотрудники – в новом здании кафедры химической энзимологии МГУ, которое мы сами в значительной степени выстроили. Мы – в смысле сами сотрудники. Мой опыт каменщика, приобретенный в целинных студенческих бригадах МГУ, пригодился. Там, в каморке на чердаке, стоит рН-стат – прибор, который измеряет рН (то есть кислотность) водного раствора, доводит его до заданной величины и удерживает на этой самой заданной величине. Поскольку при гидролизе пенициллина выделяется кислота, то прибор по заданной нами программе автоматически микропорциями вбрасывает в раствор разбавленную щелочь и тем самым нейтрализует образующуюся кислоту. Он же, прибор, записывает на бумажной ленте, сколько щелочи вброшено.
А поскольку лента движется с постоянной и опять же заданной скоростью, то по наклону выписываемой самописцем линии можно рассчитать скорость реакции гидролиза пенициллина. Быстро идет реакция – кривая круто уходит вверх. Медленная реакция – кривая пологая. Вообще нет реакции – кривая раскручивается параллельно горизонтальной оси, нулевой наклон. Все реакции идут на малых концентрациях пенициллина, в раствор выделяются доли миллиграммов кислоты, добавляемая щелочь тоже, естественно, очень разбавлена, иначе хода реакции вообще не увидеть. Обычно в таких исследованиях рН-стат заправляют щелочью (гидроокись натрия или калия) в концентрации порядка одного миллиграмма в миллилитре или несколько меньше.
И вот сотрудники приносят мне результаты опытов, которые ясно показывают, что к вечеру реакция ускоряется. Утром начинают работу – скорость ферментативного гидролиза пенициллина одна. Вот она, довольно пологая кривая. Вот угол наклона, вот рассчитанные величины скорости и константы скорости реакции. К середине дня – скорость та же, все в порядке. К вечеру скорость явно выше. Наклон кривой самописца круче. Всё то же – и фермент, и пенициллин, и концентрации реагентов. А скорость выше. И прибор, говорят, перебрали, даром что датский, и щелочь новую приготовили, и халаты постирали, а феномен налицо.
Не может такого быть. Иду в каморку самому убедиться. Утром пришел, несколько реакций подряд запустил, наклоны на ленте получил и замерил. Вечером пришел, реагенты смешал, вбросил в кювету рН-стата, – действительно, круче кривая, выше скорость реакции. Все ясно.
Так, родные мои, говорю. Учила вас мама, что помещение проветривать надо? Смотрите: первая контрольная кривая, без добавления реагентов – ни фермента, ни пенициллина, – сегодня утром выписана: скорости практически нет, кислота не образуется, щелочь не вбрасывается. Порядок. К вечеру – вы в каморке за день натолкались, весь кислород в тесном помещении скушали, углекислоты почем зря навыдыхали, парциальное ее давление повысили, вот она, углекислота, в воде растворяется и приводит к появлению кислоты в растворе, в кювете рН-стата:
H2O + CO2 = H2CO3.
А рН-стату все равно, какая кислота – от пенициллина или из воздуха, – он и гонит щелочь в раствор, чтобы ее нейтрализовать. Нейтрализует, а вы опять новую углекислоту выдыхаете, и она опять в раствор лезет.
Или держите дверь открытой, или проветривайте помещение почаще. А лучше и то и другое.
Проветрили помещение – успокоился рН-стат. Нет больше загадочной вариации кинетики в течение суток.
4. Про «несломатые дома» и английский язык
А наклонности у меня поначалу другие были. Первые пять лет своей жизни я провел в Инстербурге, как до 1946 года назывался Черняховск Калининградской области. Когда я там родился, это еще была Восточная Пруссия, оккупированная Советской Армией. Только что оттуда выслали всех немцев. И здания лежали в основном в руинах. Это у меня сохранилось в расплывчатых воспоминаниях. И мама рассказывала, что когда у меня спрашивали, кем, мол, ты будешь, я уверенно отвечал, что буду летчиком и «буду бомбить несломатые дома». Видимо, детское стремление к повышению энтропии подсказывало разумное по тому времени решение по наведению порядка (не в энтропийном смысле) и справедливости. В 1951 году наша военная семья, к тому времени увеличившись в числе на моего младшего брата, переехала в Ригу. Ехали мы в товарном поезде, и путь из Черняховска до Риги длился целых две недели. В нашем вагоне была печка-буржуйка, я это хорошо помню. И еще помню, что мой папа отстал от поезда, и это было страшно, когда мы уехали, а его не было. Но две недели – срок немалый, и папа поезд догнал.
В Риге мы прожили четыре года. Летом 1954-го, после окончания первого класса, я был в пионерском лагере «Гируляй» в Литве. Там я наблюдал полное солнечное затмение, когда в середине дня вдруг стало совсем темно, сильно похолодало и на небе засияли звезды. Это продолжалось несколько минут и настолько поразило меня, что картину в деталях помню до сих пор. Уже потом, через много лет, я прочитал, что затмение произошло 30 июня и продолжалось около семи минут.
В лагере у меня было прозвище Натуралист, потому что я все пытался рассмотреть и изучить. Я собирал всякую ерунду природного происхождения, включая жучков и бабочек, а также что-то вроде неорганизованного гербария. Но ходить по лесу нам не разрешали, потому что там все еще было много мин. Два мальчика из соседнего отряда на них подорвались, да и вообще подобное случалось часто. В литовских лесах еще прятались остатки отрядов «лесных братьев». В общем, обстановка в прибалтийских пионерских лагерях была довольно нервозной.
Жили мы в районе «буржуазной Риги», на улице Стрелковой, она же Стрелниеку Йела, в доме номер один. В доме был магазин живой рыбы, и я часто ходил туда, как в зоопарк. Рядом проходила улица Кирова. Прямо за огромной площадью лежал городской парк. Много лет спустя я побывал на этом месте и удивился тому, какой маленькой стала площадь. В канале в парке мы ловили рыбу, которая хватала все, что ей опускали, – крючок с наживкой, или тот же крючок, но без наживки, или даже просто палец. Ловить ее было очень легко, но она была очень маленькой. А учился я в школе на улице Фрича Гайля. Сейчас её, наверное, переименовали, потому что она была в свое время названа по имени Фрициса Гайлиса, латвийского комсомольца, который выбросился из окна полицейского участка на этой улице. Или его выбросили, – точных данных нет.
Сама улица Фрича Гайля была, как музей. Перед нашей школой стояли два больших мраморных льва. Я, когда много позже был в Риге, тоже пошел на этих львов посмотреть, подозревая, что они, как и площадь, окажутся маленькими, но львов уже не было. Технически говоря, они стали ОЧЕНЬ маленькими. Зато я нашел свою первую учительницу. Это был 1970 год, через 17 лет после того, как она была моей учительницей. Самое интересное, что она меня узнала и даже вспомнила, как зовут моих родителей. Я рассказал ей, что год назад уже окончил МГУ и меня оставили там работать на кафедре химической кинетики, что приехал делать доклад на международном симпозиуме «Химия природных соединений», и даже на английском языке, о каковом имею весьма смутное представление.
Честно говоря, своей тогдашней наглости по части языка я удивляюсь до сих пор. В школе я учил немецкий. На химфаке МГУ я попал в английскую группу, что было немудрено, так как все группы были английскими. Язык мне давался с трудом, видимо, потому, что я его принципиально не учил. Не знаю почему. Как сдавал зачеты, тоже не знаю. На финальном экзамене по английскому языку – на втором или третьем курсе – я что-то лепил, по-моему, весьма несуразное. Экзаменаторша открыла мою зачетку, посмотрела на сплошные «отл», тяжело вздохнула и вывела «отлично». Видимо, проявила корпоративную солидарность. Другого объяснения у меня нет.
Но в чем-то она была права. Так оказалось, что десятью годами позже я был президентом Английского клуба химического факультета МГУ, после возвращения из США, где провел год на стажировке (1974–1975), и преподаватели английского языка нашего факультета наравне с прочими участниками сидели в аудитории и задавали вопросы. В Английском клубе проходили дискуссии, естественно, на английском языке, выступали гости из США и Англии, и моя обязанность была вести эти дискуссии. Естественно, опять же на английском. Кстати, на этих заседаниях клуба я смог оценить английский моей бывшей экзаменаторши. Это был легкий шок. Конечно, я виду не подал. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними, как говорили древние. Было забавно, когда моя студенческая преподавательница, выступив на заседании клуба, объявила, что это она учила меня английскому. Что была сущая правда.
Так вот, в 1970-м я приехал в Ригу делать доклад на английском языке. За день до доклада я прочитал его по бумажке своей научной руководительнице, лежа на пляже на взморье. Она научила меня произносить несколько ключевых слов и в целом доклад утвердила. Несколько лет спустя, вернувшись из США со стажировки и услышав «английский» моей руководительницы, я смог оценить урок, данный ею мне на рижском пляже. Да, о докладе. Председательствовал на нашей секции англичанин по фамилии Диксон, один из крупнейших специалистов мира по ферментам и автор основной монографии того времени. Я рассказывал о субстратной специфичности ферментативных реакций, а именно ферментов под названием трипсин и химотрипсин. Тогда я не знал, что, например, «химотрипси́н» надо произносить как «кáймотри́псин», а «изолейци́н» – как «áйсолЮсин». Ну и все остальное примерно так же. Сначала я бойко произнес доклад на «английском», посмотрел на часы и увидел, что уложился в половину отведенного времени. Тогда я сказал, что аудитория, видимо, хочет услышать мой доклад и на русском, и повторил его на русском. Это меня слегка выручило, так как Диксон немного говорил по-русски. После того как я закончил, Диксон, используя свое право председателя, сообщил аудитории, что тут вот такой-то (моя фамилия) рассказал нам о том, что… и повторил на английском для благодарной аудитории основное содержание моего доклада. Видимо, знание русского языка ему помогло.
Лет через пятнадцать после этого мы с Диксоном были сопредседателями на биохимической конференции в США, и я напомнил ему эту историю. Посмеялись, и я угостил его обедом.
5. Где триггер? Как из закоренелого троечника стать отличником
Моя дочь научилась читать совсем крошечной. Видимо, помогло то, что я много возился с ней, играя кубиками, на которых были написаны крупные буквы и нарисованы картинки. Помните, «А» – арбуз, «Б» – барабан и так далее. И вот однажды мы едем с ней из Сочи в Адлерский аэропорт на автобусе, чтобы улететь обратно в Москву. А она была еще совсем маленькой. Ну, может, два года ей было. Может, меньше. И вот подъезжаем мы к месту назначения, и показалась надпись – «Аэропорт». Дочь я держу на коленях, жена рядом. А в автобусе через проход была активная дама, со всеми уже переговорила, включая и нас с женой, и нашу дочь. Завидев надпись, дама обращается к дочери и спрашивает: «А скажи, милая, ты какие-нибудь буквы уже знаешь?» – «Знаю», – говорит наша дочь. «Ну не может быть, – говорит дама и показывает на надпись: – Вон там какая первая буква?» – «Какая? – спрашивает дочь. – Это та, которая рядом с “Э”?» Взрыв хохота в автобусе. Мы с женой, конечно, гордые.
Поэтому я принимал как должное, что дочь всегда была отличницей, поступила в МГУ, правда, на географический факультет (по ее словам, не хотела учиться на факультете, где ее отца все знают, так что она слишком будет на виду), потом еще поучилась в Авиньоне (во Франции) и через несколько лет стала директором французского отделения международной компании.
Я вообще-то тоже рано научился читать. Года в четыре читал все подряд. Вывески, объявления, газеты, и газеты перевернутые. Точно помню, что лет в восемь-девять прочитал все тома Жюля Верна, было такое серо-синего цвета издание середины 50-х годов или чуть раньше. Еще совершенно ясно помню, как перемежал чтение того же Жюля Верна с зубрежкой таблицы умножения. Третий класс, наверное.
Еще помню первые два класса в Риге, где я учился на пятерки, а как переехали на ракетный полигон, быстро съехал на тройки. Так до девятого включительно на тройки и проучился, но я про это уже рассказывал. Я довольно часто думаю, ЧТО заставляет нас либо омертвлять наши возможности, либо, наоборот, их резко мобилизовывать в, казалось бы, безнадежной ситуации. Если бы кто в девятом классе мне, безнадежному троечнику, сказал, что десятый класс я закончу на одни пятерки, поступлю в МГУ и закончу его с отличием, а потом первым на курсе из 300 человек – в МГУ! – защищу кандидатскую, а еще через пять лет докторскую и стану самым молодым доктором наук (химических) в СССР и самым молодым в стране профессором (по данным ВАК), то что я сказал бы?
Меня этот вопрос беспокоит. Когда я вижу троечников, я всегда об этом помню. Я хочу, чтобы они тоже включили свои ресурсы. Но где триггер? Что это? Может, спорт, точнее, появившаяся – в спорте – вера в свои силы?
В седьмом классе я сломал руку, и мама отвела меня в Дом офицеров, в спортивную секцию, чтобы я разрабатывал руку. Я занялся фехтованием, но эспадрон меня не вдохновлял. Я перешел в спортивную гимнастику. И понемногу пошло. Мне нравилось владеть своим телом, переключать мышцы, переходя со снаряда на снаряд. Я беззвучно пел от восторга, вознося себя махом на перекладину и чувствуя, где в определенный момент витка находишься; на брусьях, плавно переходя с жерди на жердь, перебирая руками и перенося вес тела как будто в такт музыке; на кольцах, укрощая их неустойчивое вихляние и переводя в послушную опору; на коне, – особенно на коне, – перенося центр тяжести тела и ритмично качаясь-вращаясь, следуя рисунку программы, и вдруг – раз, ритм сбиваешь, и пошел в новом ритме, в обратную сторону, и – белые носочки, белые спортивные брюки, носки оттянуты, руки – захват, отпустил, захват, отпустил, ритм, ритм; прыжки – разбег, толчок, полет, удар руками, опять полет, приземление; ну и, конечно, акробатика, на черном кожаном мате, перекаты, полеты, стойки, обороты, и в конце – точка, струнка, руки вверх, разведены, застыл, как будто и не было ничего, так и стоял.
Все шесть мужских гимнастических вариантов – пять снарядов и акробатика.
В девятом классе я занял первое место в школе по спортивной гимнастике. Может, это был триггер? Или то, что гроза школы, знаменитый в нашем городке баскетболист, острослов и рубаха-парень Володя Меняйлов, к которому я и приблизиться не мог подумать, и не только потому, что он был на класс старше меня, но по всему комплексу, плюс то, что он был в школе круглым отличником, так вот, завидев меня как-то в парке, он со своей группой парней, которые слыли на всю округу хулиганами, подошел и уважительно сказал, что я здорово выступил по гимнастике, и вслух процитировал все мои показатели: перекладина 9.4 балла, брусья 9.6 и так далее! Он знал и помнил! Это тоже вызвало эмоциональный подъем, сродни тому, что я описал в самом начале этих заметок. Может, это был триггер?
Может, поэтому я вскоре осознал, что могу заучивать целые учебники и получать удовольствие от экзаменов? Может, ЭТО дает ощущение, что это МЫ управляем событиями, а не наоборот? Кстати, последнее чувство кажется мне теперь совершенно естественным. Это о нем О’Генри говорил, что не дороги выбирают нас, а мы выбираем дороги. И я не только абсолютно согласен с этим, но и отшлифовал это ощущение до совершенно естественного. МЫ выбираем, МЫ. Никто за нас не выбирает.
В университете я продолжал заниматься спортом, что освободило меня как члена сборной МГУ по спортивной гимнастике от обязательных занятий физкультурой. В начале второго курса наша сборная заняла третье место по Москве. И будучи поставленным перед выбором, к чему мне склониться – к спорту или к учебе, – я оставил гимнастику. Слишком много времени стало уходить на тренировки, поэтому я сделал выбор. В гимнастический зал с тех пор я не входил вот уже сорок лет. Хотя и сейчас, тренируясь в «джиме» в ньютонском JCC (Ньютон – это пригород Бостона), я ощущаю себя на гимнастическом помосте, на глазах зрителей. Так же автоматически «тяну носочки», теми же приемами останавливаю в один правильный и жесткий «напряг» раскачивание тела на перекладине, так же фиксирую «углы». Это уже навсегда.