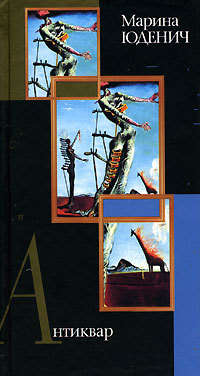Полная версия
Игры марионеток
Но не успел.
Шквал страшных репрессий обрушился на тех ученых, чьи труды по психологии и философии заставили молодого Штейнбаха отложить в сторону учебники по психиатрии. На его глазах происходило страшное: наука, которой намеревался посвятить себя, с корнем выкорчевывалась из российской почвы.
Впереди были десятилетия отрицания и осуждения.
Изгнание и забвение.
Впереди был мрак.
Разумеется, ничего этого Лев Модестович знать не мог.
Он испытал ужас и шок.
Был обескуражен, растерян, раздавлен, но… остался на медицинском факультете и продолжил учебу.
Однако исследований своих не прекратил.
Риск, как полагал Штейнбах, был невелик, ибо приемы воздействия на человеческую психику, которые, собственно, и были его предметом, могли с успехом применяться в лечебных целях.
Методика была новой и довольно сложной, но разрешение на проведение эксперимента в одной из подмосковных психиатрических больниц было получено.
Результаты оказались блестящими.
Льва Модестовича поздравляли.
Ученые мужи говорили о большом открытии, и… не подозревали, что видят только вершину айсберга.
Достаточно было легкой модификации – и техника Штейнбаха начинала столь же блестяще работать применительно к людям совершенно нормальным.
Их, разумеется, незачем было лечить. Но суть методики, в том-то как раз и заключалась, что благодаря ей, больного человека удавалось привести к излечению, а здорового – подвести к…. ч ему угодно.
Однако ж, фанфары гремели.
Методика Штейнбаха анализировалась и так, и эдак.
Наконец, Лев Модестович, с облегчением решил, что истинных ее возможностей никто так и не распознал.
Он ошибся.
Горина. Власть
«Здравствуй, заяц!
Думаю, сейчас ты очень удивилась.
Просто вижу воочию, как поползли вверх твои тонюсенькие брови.
Кстати, никогда не мог понять, зачем женщины щиплют их, обрекая себя на такие страдания. Неужели ты на самом деле полагаешь, что толщина бровей может всерьез изменить внешность?
Странно это, но даже самые умные женщины – а ты, без всякого сомнения, самая-самая! – подвержены самым глупым бабским заморочкам.
Но я отвлекся.
Итак, ты удивилась уже самому факту этого письма.
Действительно, в чем уж твой покорный слуга никогда не был замечен, так это в пристрастии к эпистолярному жанру.
Но – обстоятельства, которые, как тебе известно, иногда бывают сильнее нас, похоже, постучались и в мою дверь.
Вот, я и сделал одно из самых трудных признаний.
Признал, что обстоятельства сильнее меня.
А поскольку автор этих обстоятельств – ты – что ж! – пой, пляши, торжествуй.
Ты победила.
Поверь, заяц, признавая это, я не испытываю отрицательных эмоций.
Ни обиды, ни досады или злости, даже чувство уязвленного самолюбия не подает голос.
И уж тем более нет в моей душе ничего недоброго, темного, потаенного по отношению к тебе. Не огорчает меня эта твоя победа.
Возможно, и не радует.
Пока.
Потому, что допускаю: если разум мой и сердце будут двигаться в том же направлении – скоро смогу порадоваться тому, что ты, крохотный, пушистый мой зайчонок, стала такой сильной и могущественной, что победила самого меня!
И еще прошу, поверь уж, будь добра мне на слово, все, что я сейчас говорю, а вернее пишу – пишу совершенно искренне. Возможно, более искренним прежде я с тобой не был.
А уж с кем тогда был, если не с тобой?
Ни с кем.
Кстати, еще одно лирическое отступление.
Пишу и начинаю понимать, почему предки оставили такое эпистолярное наследие.
Скажешь, у них не было телефонов, факсов, электронной почты и прочих технических изобретений, сводящих всю сложную гамму человеческого общения к простому нажатию кнопки?
Еще недавно я и сам думал также, но теперь, пожалуй, стану спорить.
Нет, дорогая моя, дело не в этом, или уж, по меньшей мере, не только в этом.
Оказывается – эту истину я открыл для себя только что – проще всего излить душу чистому листу бумаги. Или – ладно, согласен, сделаем поправку на цивилизацию! – персональному компьютеру.
К чему я это?
Да, вот к чему.
Думаю, что сказать все это, глядя в твои ведьмацкие глаза, я бы не смог.
Нет, точно не смог!
Сорвался бы, начал лукавить, становиться в позы, что-то из себя изображать, надувать щеки, умничать.
Да ты сама отлично знаешь весь мой петушиный арсенал!
А вот писать могу.
Перед тобой и перед Богом чист – пишу правду.
Так вот, касательно твоей победы.
Она вызревала исподволь, постепенно и вроде бы незаметно.
То есть, это я долгое время не замечал твоего неуклонного становления.
Для тебя, надо полгать, все обстояло совершенно иначе: ты росла. Полагаю, процесс этот был сознательным и нелегким.
Но я, старый болван, воспринимал тебя в статике, неизменной данностью, ниспосланной Господом. Уж очень мил был сердцу твой изначальный образ: чудное, беззащитное, вдобавок, напуганное до смерти существо, в глазах которого я – только что – не Бог, но уж, небожитель – точно, во власти которого спасти или погубить.
Надеюсь, не обидел тебя этим пассажем, и ты не станешь спорить: был в истории наших отношений такой период.
Потом начались перемены.
Думаю, на бессознательном уровне я их замечал.
Просто не мог не замечать.
Однако, рассудок слишком занят был собственными проблемами, важнее которых не было на свете.
А может, душа моя уже тогда угадала, почуяла угрозу, которую таили в себе эти неминуемые перемены, и малодушно закрывала глаза, не желая признать очевидного.
Когда же настал, наконец, момент истины, я прозрел в одночасье, и увидел новую, тебя.
Повзрослевшую.
Возмужавшую.
Завоевавшую определенные – весьма завидные! – позиции на той стезе, которую долгое время я, самонадеянный идиот, считал исключительно своей прерогативой.
Не скрою, это был жесткий удар.
И сразу же попрошу у тебя прощения, потому что все мое дальнейшее поведение было сплошным отвратительным и стыдным свинством.
Чего я только не делал, чтобы остановить твой стремительный взлет!
И врал, пытаясь убедить тебя в том, что избранный путь тебе не по силам.
И подличал, организуя всевозможные препоны и ловушки.
И откровенно «ломал через колено», грозя оставить, разорвать наши отношения.
Впрочем, в этом, последнем, был честен.
Когда тщетность всех моих усилий стала очевидна, я, на самом деле, решил вычеркнуть тебя из жизни.
Прием этот хорошо известен, и хотя, скажем прямо, не делает чести взявшим его на вооружение, действует неплохо. Суть его проста: фактор, вызывающий отрицательные эмоции следует исключить из обхода.
С человеком – раззнакомиться, рассориться.
Предмет – забросить в дальний угол, а то и вовсе – выбросить на помойку.
Зловредную телевизионную программу – не смотреть.
Эмоции, которые немедленно закипали во мне и били, что называется, ключом, стоило только твоему голосу раздаться где-то поблизости, особенно – в эфире (а ты, как назло мелькала на экране все чаще – журналисты, пожалуй, первыми оценили твои многочисленные достоинства), скажем так, не доставляли мне радости и не делали чести.
И я решился.
Рванул с корнем.
Обрубил концы.
Сжег мосты.
Что там еще говорят и пишут в подобных случаях?
Справедливости ради, замечу все же, что поначалу все у меня получилось.
Мы расстались.
Я знаю, ты страдала.
Прости за то, что напоминаю об этом, да еще в таком высокопарном стиле. А еще прости за то, что мне осознание этого, доставляло некоторое, пусть и не слишком ощутимое, но все-таки – облегчение.
Не скажу – радость.
Радоваться было нечему.
Для меня потеря оказалась куда более тяжелой, чем мог предполагать.
К тому же, то, как я обставил наше расставание, а вернее – если уж быть честным до конца! – собственное бегство, было так гадко и стыдно, что говорить об этом до сих пор не хочется.
Стыдно.
Никогда в жизни, я не чувствовал себя таким трусом и подлецом, как в те дни.
Ты, со свойственной тебе горячностью, искала, требовала объяснений.
Я трусливо скрывался, отсиживался дома, отключив телефоны.
Мысль о встрече с тобой и необходимости что-то объяснять повергала в ужас.
Да и что, собственно, мог я объяснить тебе?
Сказать правду, то есть признать, что ты «переросла» меня, «обошла на повороте» и осознание этого мне невыносимо?
Что женщина, из которой пару лет назад я легкомысленно собирался «сделать человека», состоялась в такой степени, что стала для меня непозволительной роскошью?
Не по Сеньке, дескать, шапка?
Не по сверчку шесток?
И мне от этого тошно, и белый свет не мил?
Но в том-то и была суть проблемы!
Если бы мог я в ту пору признать такое, то и бежать от тебя не было никакой нужды!
Жил бы подле, да радовался.
Нет, гордыня не позволяла.
Она громче всех прочих чувств вопила тогда во мне, моя гордыня.
Сильна был, стерва!
Я чувствовал себя тараканом, мерзким, грязным, помойным тараканом, который, напакостив, в животном ужасе, забился в щель и притворился дохлым. А может, и не притворился вовсе, а на самом деле, от страха сдох.
Жил ли я все то время, пока корчился от зависти?
Очень условно.
Думаю, а вернее, надеюсь, что судьба моя и сейчас тебе не безразлична.
Но уверен, что в те дни ты наблюдала за событиями моей жизни пристально, и потому знаешь, как печально, если не сказать – трагически они развивались.
Далек от мистики, но, право слово, впору предположить, что судьба карала меня за то зло, которое причинил тебе.
Карала жестоко и показательно.
Все, из чего складывалось мое легендарное благополучие: репутация, карьера, связи – все, чему завидовали враги и жаждали последователи, водночасье рассыпалось, словно карточный домик, из основания которого выдернули одну-единственную карту.
Даму, разумеется.
Только вот какую?
В токовании мастей, признаюсь, не силен.
Словом, я стремительно терял все и неуклонно скатывался вниз по той самой лестнице, что вознесла меня к вершинам.
Ступенька за ступенькой.
В строгой обратной последовательности.
Иногда, как и при восхождении, перепрыгивая сразу через несколько уровней.
И вот настал черед последнего предела.
Падать дальше было уже некуда, но бездна, в которую я сорвался, оказалась отнюдь не бездной.
Я ощутил себя сидящим или даже лежащим, впрочем, уместнее будет сказать – валяющимся на дне глубокой выработанной шахты.
Мне было очень скверно – тоскливо и одиноко.
Кругом были тьма и запустение.
Но, оказалось, что жить можно и так!
К тому же, как выяснилось, я был не одинок.
Скажу больше: далеко не одинок!
Вокруг копошились такие же бедолаги, свергнутые с высот, а то и вовсе туда не добравшиеся.
Никогда.
Представляешь, всю жизнь – не дне выработанной шахты, о которой там, наверху никто толком и не помнит?!
Но они жили, и мало – помалу, я тоже приспособился к этой жизни.
Мир постепенно обрел краски.
Разумеется, это были совсем иные краски, чем те, в которые была раскрашена моя прошлая жизнь.
Не было места торжественной позолоте и царственному пурпуру, но, знаешь ли, скромная акварель тоже ведь иногда занимает место в прославленном музее.
Постепенно ко мне вернулось многое, но еще большее пришло, как бы, сызнова.
К примеру, я полюбил те книги, что прежде вызывали только раздражение и желчную иронию.
И, наконец, в этот пастельный, негромкий мир вернулась ты.
Теперь я с нетерпением щелкаю кнопки на телевизионном пульте, в ожидании новостей: журналисты, как и прежде, охотятся за тобой, но меня это только радует.
Потом мне предложили работу.
Должность оказалась более чем скромной, но я несказанно обрадовался уже самой возможности, и – представь себе! Впрочем, тебе, наверное, трудно будет это представить! – впервые за много лет снова ощутил тот восхитительный кураж, который охватывал меня прежде перед началом интересного дела.
Тогда думалось, это потому, что вершу судьбы миллионов.
Теперь понимаю, как был не прав!
И вот, проснувшись как-то раз, я вдруг почувствовал себя настолько сильным, что смог, наконец, сформулировать то, что пишу сейчас.
Сначала очень осторожно.
Мысленно.
С трудом подбирая слова.
Надо сказать, подбирались они довольно долго.
Потом нелегко и непросто складывались в предложения.
Словом, письмо это рождалось в муках, но сейчас, завершая его, я снова испытываю то странное, счастливое и радостное волнение, которое беспричинно вроде бы охватило меня в день первой нашей встречи.
«С чего бы это?» – удивился я тогда, не понимая, что, отворив знакомую до отвращения дверь собственной приемной, вдруг оказалась на пороге не то, что нового этапа в жизни, но просто – новой жизни своей.
Теперь – понимаю.
И счастлив уже только от этого, хотя прекрасно отдаю себе отчет в том, что рассчитывать на взаимность не вправе.
И все же пишу: хочу, ищу встречи с тобой.
Мечтаю о ней.
Люблю.
Георгий.
P. S. Звонками одолевать тебя не стану.
По себе знаю, как раздражают навязчивые собеседники.
Об одном прошу, если, разумеется, дочитала письмо до конца, найди меня сама.
Теперь это совсем не проблема.
Г.»
Женщина, которой было адресовано это письмо, была еще довольно молода и хороша собой.
Тонкими были черты ее лица, хрупкой фигура.
Изумрудная, мерцающая зелень глаз покоряла многих, а те, кто остался непокорен, просто удивлялся тому, какие щедрые дары иногда рассыпает мать– природа, и долго помнил о них, рассказывая другим, при случае.
Все это, впрочем, нисколько помешало ей, завоевать прочную и весьма устойчивую репутацию железной леди, умеющей не только виртуозно держать удар, но и мастерски наносить ответный.
При том утверждали, что ни жалости, ни страха она не знает, и приводили тому очень убедительные примеры.
Теперь она плакала, закрыв лицо узкими ладонями.
Слезы, срываясь, с точеных скул, падали на стол.
Год назад – всего только год назад! – это странное, волнующее письмо, крик души, которая прежде – казалось ей – могла только смеяться, обидно и зло, вознесло бы ее к вершинам счастья.
Год назад она бы уже неслась на крыльях, мчалась, обгоняя время….
Вполне возможно, что она даже не дочитала бы письмо до конца, рванувшись на поиски того, кто так трогательно просил об этом.
Сегодня это было невозможно в принципе.
Человек, написавший письмо, вот уже год, как пребывал в ином мире.
Старик. Год 1939
Кабинет в знаменитом здании на Лубянке оказался неожиданно маленьким и даже уютным.
Зеленое сукно на столе, лампа под зеленым абажуром, остро отточенные карандаши в небольшой вазочке граненого, темно – синего стекла.
Потрет вождя на белой стене.
Деревянные панели темного дерева.
Широкая ковровая дорожка под ногами, красная, отороченная зеленым.
Люстра погашена, и мягкий свет настольной лампы скрашивает казенщину.
Даже сочетание красного с зеленым не режет глаз.
Хозяин – подстать кабинету.
Интеллигент, с тонкими аристократическими пальцами, вкрадчивым баритоном, и приятной, слегка ироничной манерой объясняться.
Гладко выбрит, лицо худощавое.
Одет, по тогдашней моде, во френч, полу – военного образца, без погон.
Глаза скрываются за стеклами очков в круглой металлической оправе.
Неторопливо, по-домашнему прихлебывает он чай из граненого стакана в мельхиоровом подстаканнике. Изредка напоминает о том же посетителю, дескать, стынет чай, вы пейте, не стесняйтесь!
Льву Модестовичу, однако, не до чая.
– Вам ведь известно, наверное, что в моей семье все – потомственные врачи. Психиатры. Я не мыслю себе другой карьеры. И никогда не мыслил.
– Ну, разумеется. Нисколько в этом не сомневаюсь. Вы работали над медицинской проблемой, но неожиданно…. Неожиданно, Лев Модестович…. Вы волнуетесь сейчас, не знаю, правда, отчего бы это. И от волнения позабыли важную деталь. Так вот, совершенно неожиданно, выяснилось, что вышли далеко за ее рамки. Разве я не прав?
– Да-да, это возможно. Теперь я понимаю, что такое возможно. Но, поверьте мне, ни о чем таком я не думал, и уж тем более ни с кем это не обсуждал…
– А вот это, напрасно Лев Модестович. Я ведь и не спрашивал вас о том, с кем вы это обсуждали.
– Я не обсуждал, честное слово!
– Хорошо, не обсуждали. Или обсуждали. Что вы право, рапортуете, как пионер. Меня это не интересует. А вы, судя по всему, наслушались глупой болтовни, будто мы здесь, только и заняты тем, что заставляем людей доносить друг на друга.
– Но ведь….
– Что – ведь? Ведь доносят? Верно, доносят. И скажу вам откровенно иногда мы действительно, прилагаем некоторые усилия, чтобы получить признания. У тех, кто до сих пор еще в слепой ненависти своей или по глупости воюет с советской властью. Идет борьба. Нам наносят удар. Что же прикажете, щеки подставлять? Однако, касательно доносов. Можете поверить мне на слово, Лев Модестович. Впрочем, можете и не верить. Но большинство из тех, кто рассказывает о том, как мы здесь под пытками заставляем писать доносы, доносят сами. И, совершенно, замечу, добровольно. Вам будет сложно представить, как много сообщают нам граждане, так сказать,…. друг о друге…. И с каким усердием! Так что – оставим это. Вы не совершили ничего предосудительного. Вот, собственно, что я пытаюсь втолковать, на протяжении часа, чудак вы человек! Ни – че – го! И прекратите, наконец, оправдываться. Запомните, нигде в мире, вы не найдете такого трепетного отношения к ученым, как в нашей стране. Вам не оправдываться, вам сейчас требовать от меня нужно.
– Чего требовать?
– То есть как это – чего? Лаборатории. Института. Вам же необходимо продолжить работу
– Но почему – у вас?
– Лев Модестович, давайте, наконец, обозначим некоторые…. ну, скажем так, – параметры нашего разговора.
– Давайте.
– Так вот, параметр первый. В дальнейшем мы будем исходить из того, что мне хорошо, хотя, быть может и не в полной мере, понятны все – слышите меня, все – возможности вашей методики. А вам столь же хорошо понятно, что это понятно мне….
В Киев Лев Модестович возвратился в августе 1940 года.
Незадолго до этого, весной того же года местные власти получили не подлежащий обсуждению – и разглашению! – приказ из Москвы.
Им предписывалось обеспечить молодого ученого всем необходимым для успешной работы.
Приказ, разумеется, был выполнен неукоснительно.
Льва Модестовича ожидала небольшая лаборатория, отвечающая самым взыскательным требованиям, и практически безграничный полигон для экспериментов.
Но работать здесь ему оставалось совсем недолго.
Точеная фигурка женщины в развивающихся одеждах была устремлена вперед и словно парила в воздухе, обгоняя машину, символом которой служила долги годы.
Лола. Нефть
«Беги, Эмили (, мчись, догони мою удачу», – подумала Лола
Взвыли сирены.
Идущая впереди полицейская машина разгоняла автомобильный поток.
Сзади ей вторил мощный джип, замыкавший кортеж.
Лола осторожно выглянула из-за шторки, скрывающей от любопытных глаз пассажиров лимузина.
Автомобили на дороге испуганно шарахались к обочине.
Профессиональным взглядом – за плечами все же был режиссерский факультет ВГИКА – она оценила картинку.
Отдельные кадры легко сложились в яркую мозаику.
Крупный план – скульптура на капоте.
Общий план – дорога с летящим кортежем.
Снова несколько «крупняков» – лица людей в машинах.
Гамма чувств – любопытство, досада, восхищение, злость…
Поймав себя на этом, Лола усмехнулась.
Профессиональные навыки вряд ли потребуются в ближайшее время.
Четверть часа назад совет директоров Национальной нефтяной компании единогласно избрал ее своим Председателем
Впрочем, ничего другого ему просто не оставалось.
Не сбавляя скорости, кортеж влетел на летное поле.
Промчался мимо вереницы крылатых машин и замер возле небольшого – 547– «Боинга» стоящего несколько в стороне.
Автомобили красиво выстроились у трапа – «Ролс – Ройс» – прямо возле ступеней, машины сопровождения – вереницей следом, каждя, отступая ровно на полкорпуса.
Ни сантиметром меньше.
Или больше.
Лола молчала, ожидая, что ей подскажут, как вести себя дальше.
И почти страдала от этого молчания.
Оно могло показаться высокомерным.
На самом же деле, было, скорее, робким.
Она просто боялась заговорить.
И в сотый раз отчаянно пыталась понять – почему?
В чем заключается ее вина пред братом?
Братом.
Даже мысленно слово давалось очень трудно.
До тридцати трех лет – воистину, мистический возраст! – у Лолы Калмыковой братьев не было.
Он тоже молчал и тоже почти страдал.
Впрочем, скорее всего, безотчетно.
Ибо плохо представлял себе пока – что есть страдание?
А вот ярость – да!
Ее раскаленная волна захлестывает разум и парализует волю, полностью подчиняя себя тело.
Это чувство было ему хорошо известно.
Испытано многократно.
Сейчас ярость владела им безраздельно. Приступ был таким сильным, что он испугался.
Самое скверное было то, что чувствам нельзя было дать волю.
По крайней мере, теперь.
С каким бы наслаждением он сомкнул пальцы на тонкой шее этой сучки.
Или нет – задушить – это было бы слишком гуманно.
А вот медленно – медленно вонзить нож в тело.
Потом еще раз.
И еще.
И еще.
Он физически ощутил ладонью рукоятку стилета, того самого, которым буквально выпотрошил недавно визгливую шлюху из варьете
Из-за чего, кстати?
Он даже удивился мимолетно, но, действительно, не смог вспомнить.
Но кровь текла по рукам.
Вязкая.
Теплая.
Ах, с каким бы наслаждением он повторил бы это сейчас.
Медленно, аккуратно, почти бережно.
Чтобы она ненароком не умерла сразу….
Нет.
Нельзя.
Нужно терпеть.
Он так сжал руки, что пальцы побелели.
Сжался сам, напрягая каждый мускул в безумном усилии остановить мощный порыв.
Надо было что-то говорить.
И делать.
Черт его знает, сколько времени уже машина стоит у трапа?!
Ну, так, когда ты определишься окончательно? Насчет того, где будешь жить и…. вообще? – голос звучал на удивление ровно и даже насмешливо
Я определюсь…. Я постараюсь определить в течение недели. Нормально? – (Какого черта я заискиваю? Когда определюсь, тогда и определюсь! Когда моя левая пятка захочет…. )
Не тяни, пожалуйста.
Он нашел в себе силы повернуться и посмотреть на нее.
И даже улыбнуться.
Едва заметно, одними губами
Но – улыбнуться.
Да, и вот еще…. – щелкнули замки тонкого атташе-кейса – Пока не оформили тебе кредитные карты…. Возьми, на первое время…
Крышка чемоданчика, захлопнулась, едва приподнявшись.
Это получилось непроизвольно, но, когда он увидел, как дернулись ее веки – даже обрадовался.
Нищенка.
Грязная шлюха, дочь грязной шлюхи, она и не видела никогда таких денег.
Но – стоп!
Нельзя!
Нельзя!
Нельзя!
– Здесь сто тысяч – на первое время. Хватит, надеюсь…. На булавки