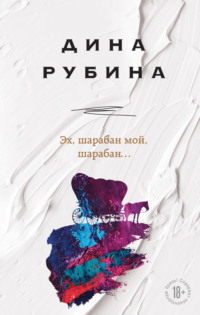Полная версия
Теплые штаны для вашей мами (сборник)
Потоптавшись у дверей, мальчик, репетирующий подследственного, делал нерешительный шаг в сторону окна, где стоял его товарищ, репетирующий следователя, и говорил неестественно бодрым голосом:
– Здорово начальник! Вызывал?
– Там нет этого идиотского текста!! – вопила я из своего угла. – Почему вы не учите роль?!
– Отстань, приедет укладчица, всех уложит, – огрызалась Анжелла. – Не мешай репетировать. Сейчас главное – как они двигаются в мизансцене. А ты не стой, как козел! – обращалась она к мальчику. – Ты нахальней так: «Здорово, начальник! Вызывал?»
– Учите роль, черт возьми! – нервно вскрикивала я.
– Нет-нет, Анжелла, я принципиально против этой мизансцены! – Стасик вскакивал с кресла – атласно выбритый, в белом кепи и белой маечке с картинкой на груди – задранные женские ножки – и надписью по-английски: «Я устала от мужчин». – Он должен стоять вот здесь, повернувшись спиной к вошедшему, и когда тот входит и говорит: «Здорово, начальник, вызывал?» – поворачивается…
– И камера наезжает, – подхватывала Анжелла, – и глаза крупным планом… Ну, пошел, – предлагала она несчастному студенту, – оттуда, от дверей…
– Здорово, начальник! Вызывал? – вымученно повторял мальчик, косясь на Анжеллу.
– Да не так, не так, более вкрадчиво: «Здорово, начальник, вызывал?»
– Здорово, нача-альник…
– Нет. – Анжелла откидывалась в кресле, сидела несколько мгновений, прикрыв глаза, потом говорила мне устало: – Покажи ему, как надо.
Я шла к двери, открывала и закрывала ее, делая вид, что вошла, скраивала на лице ленивое и хитрое выражение, одергивала воображаемую рубаху, рассматривала воображаемые сандалии на грязных ногах и – столько интеллектуальной энергии уходило у меня на эти приготовления, что когда я наконец открывала рот, то говорила приветливо и лукаво, как актер Щукин в роли Ленина:
– Здорово, начальник! Вызывал?..
* * *После того как на главную роль в фильме был утвержден Маратик, я перестала интересоваться актерами, приглашенными на роли остальных героев.
Толя Абазов съездил в Москву и привез двух актеров, кажется – Театра Советской Армии. Один должен был играть Русского Друга, впоследствии убитого уголовной шпаной (трагическая линия сценария), второй, маленький верткий армянин с печальными глазами, играл узбекского дедушку главного героя (комическая линия сценария). Ребята были бодры, по-столичному ироничны и всегда поддаты. Они приехали подзаработать и поесть фруктов и шашлыков.
На роль бабушки главного героя (лирическая линия сценария) привезли из Алма-Аты народную артистку республики Меджибу Кетманбаеву – плаксивую и вздорную старуху со страшным окаменелым лицом скифской бабы. Она затребовала высшую ставку – 57 рублей за съемочный день, «люкс» в гостинице и что-то еще невообразимое – кажется, горячий бешбармак каждый день.
Директор фильма Рауф приезжал увещевать бабку.
– Кабанчик, – говорил он ей плачущим голосом, – ты ж нас режешь по кусочкам! Где я тебе бешбармак возьму, мы ж и так тебе народную ставку дали. Кушай народную ставку, кабанчик!
(В конце концов она повздорила с Анжеллой и уехала, не доснявшись в последних трех эпизодах. Я, к тому времени совсем обалдевшая, вяло поинтересовалась, что станет с недоснятыми эпизодами.
– Да ну их на фиг, – отозвалась на это повеселевшая после отъезда склочной бабки Анжелла. – Вот приедет укладчица, она всех уложит…)
В один из этих дней Анжелла с гордостью сообщила, что музыку к фильму согласился писать не кто иной, как сам Ласло Томаш, известный композитор театра и кино.
Дальше следовала насторожившая меня ахинея: будто бы Ласло Томаш, прочитав наш сценарий, пришел в такой восторг, что, не дождавшись утра, позвонил Анжелле ночью.
– Не веришь? – спросила Анжелла, взглянув на мое лицо. – Спроси сама. Он приезжает сегодня и в три часа будет на «Узбекфильме».
Мы околачивались на студии – подбирали костюмы, смотрели эскизы Вячика к фильму. Основной его художественной идеей была идея драпирования объектов. Всех.
– Драпировать! – убеждал он Анжеллу. Это было единственное трудное слово, которым он владел в любом состоянии. – Драпирование – как мировоззрение героя. Он – в коконе. Весь мир – в коконе. Складки, складки, складки… Гигантские складки неба… гигантские складки гор…
– Слушай, где небо, где горы? – слабо отбивалась Анжелла. – Главный герой – следователь милиции. Маратик не захочет драпироваться.
Между тем было, было что-то в этой идее, которой посвятил свою жизнь Вячик. В первые дни Анжелла, обычно подпадавшая под очарование творческих идей свежего человека, дала ему волю. И наш художник всего за несколько часов до неузнаваемости задрапировал дом главного бухгалтера: развесил по стенам, по люстрам, по стульям какие-то дымчатые прозрачные ткани. Все эти воздушные шарфы и шлейфы колыхались и нежно клубились в струях сквозняков. А поскольку левое крыло дома осталось обитаемым и по двору время от времени сновали какие-то юркие молчаливые женщины – дочери, невестки, жены бухгалтера, – то все это сильно смахивало на декорации гарема.
Правда, в первый день съемок, примчавшись на гремящем мотоцикле, Маратик навел порядок на съемочной площадке. Он посрывал все драпировки мускулистой рукой каратиста, покрикивая:
– Оно по голове меня ползает! Я что – пидорас, что ли, в платочках ходить?
И директор фильма Рауф успокаивал полуобморочного Вячика:
– Кабанчик, ну не скули – какой разница, слушай – тряпка туда, тряпка сюда… Все спишем, кабанчик!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.