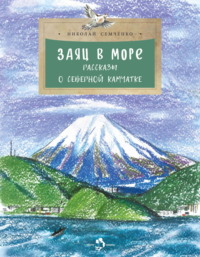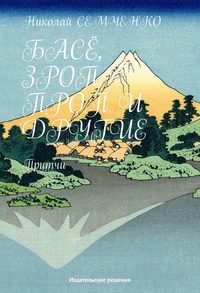Полная версия
Яблоко по имени Марина
Ну, возьмешь меня замуж?
Да, – сказал я. И почему-то испугался, и тут же отпрянул от окна вглубь комнаты.
– Смотри же, помни свое обещание, – сказала Марина и засмеялась: – А спорим, не вспомнишь? Мужчины много чего обещают, но не всегда выполняют…
Бармалей возмущенно вскрикнул и громко закокотал, что он всегда делал, когда замечал ястреба или любую другую крупную птицу. Наседка тоже всполошилась, закудахтала и кинулась с цыплятами под куст смородины. Всю эту куриную суетню я видел в дырочку в шторе, а вот Марины в поле моего зрения не было. Меня утешила Дунька, которая ласкалась о ноги и мурлыкала – пушистая, уютная, не помнившая стольких обид, которые я причинял ей из-за ее вороватости: чуть зазеваешься – обязательно вскочит на стол и что-нибудь стащит. Даже если не голодная. Ишь, добытчица какая!
А вечером пришел дядя Володя и сказал:
– Паша, ты любишь костры?
Конечно, я любил смотреть на огонь, и дым, сладко-терпкий от травы, которую бросаешь в костер, я тоже любил, а еще – картошку, запеченную в золе под головешками, переливающимися как бордовый бархат на сцене сельского клуба.
– И я, Паша, люблю смотреть на огонь. Давай разведем костер! – сказал дядя Володя. – Далеко не пойдем, вот тут, на полянке
перед домом, и разведем…
Он вынул из кармана кулек с «Пилотом». Почему-то всегда приносил только эти конфеты, и ни разу – леденцы, которые я уважал больше других сластей. Зато Марина очень любила шоколадные конфеты.
Потом мы сидели у костра, слушали дяди Володины анекдоты, смеялись, пекли картошку и, обжигаясь ею, облупливали коричневую в черных подпалинах кожуру – она легко сжималась под пальцами, собиралась гармошкой и снималась, как оболочка с дорогой копченой колбасы. Вокруг нас густела темнота, и красные искорки, будто большие светляки, кружили над костром.
– Мадмуазель, вы нормально вчера до дома добрались? – небрежно и как бы невзначай спросил дядя Володя Марину. – Хотел тебя проводить, но пока ходил в буфет за папиросами, гляжу: твой след уже давно простыл…
– Видишь: живая! – рассмеялась Марина. – Что со мной сделается?
Обычно она смеялась тихо, будто стеснялась, а тут – громко, по русалочьи заливисто.
Еще и роль немножко поучила, – продолжала она. – Помнишь, Сидор говорит: «Только Платона назвали, и вы как маков цвет
вспыхнули». А Луша отвечает: «Зачем выдумывать? Маков цвет. Я замужняя. Что мне во Платоне вашем. Нашли невидаль.»
А заглядывалась, – сказал Володя.
Мало ли что заглядывалась. У какой девки сердце не зазнобчиво? – лукаво, не своим голосом откликнулась Марина.
– Пастернака сейчас ругают в газетах, – сказал Володя. – Наверное, нам не разрешат показывать «Слепую красавицу». Зря
время теряем! Это твоя первая роль, и вот – напрасно. Жалко, что я тебя раньше в наш театр не привел…
А что такого запретного в этой пьесе? – удивилась Марина. – Очень жизненная пьеса, должна зрителю понравиться…
Да как понравится, если Пастернак там, наверху, многим не нравится. К тому же пьеса, говорят, и не печаталась нигде. Спросят,
где взяли, а что режиссер ответит?
Итут Марина улыбнулась совсем как Одри Хэпберн. Это была такая улыбка, что вы и представить себе не можете, если никогда не видели фильм «Римские каникулы». Мы с папой ходили на него целых три раза. Ему очень нравилась Одри с огромными печальными глазами, трогательно торчащими ключицами и легкой, совершенно обезоруживающей улыбкой. Она была нежной и беззащитной, прекрасной как принцесса из туманного, полузабытого сна. И Марина тоже умела улыбаться так же трогательно. Но Володя почему-то совсем не обратил на это внимания, и они завели долгий, малопонятный мне разговор о каком-то поэте, его опале и таланте, нищете и трагедии, и о том, что когда-нибудь, лет через сто, а может, раньше, искусство станет свободнее.
Я слушал их и не понимал, о чем это они беседуют: какая такая им свобода нужна, чтобы читать стихи, танцевать или играть на сцене? Ну и представляйтесь, сколько хотите, лишь бы другим не мешали!
Полуночничаете? – вдруг возник из темноты чей-то голос. Мы, как по команде, повернули в его сторону головы.
Неясный силуэт мужчины почти сливался с покрывалом ночи, но вот он сделал шаг, другой и в отблесках затухающего костра проявилась серая маска лица, и чем ближе человек подходил к нам, тем оно четче становилось. Да это же Иван, наш сосед! И чего он так поздно бродит? Наверное, скучно ему без Поли, его жены: уехала на месяц в
Брянск, в отпуск, а мужа оставила на хозяйстве – кормить собаку, кур, приглядывать за садом-огородом.
Можно к вам подсесть? – спросил Иван.
Мы уже насиделись, по домам собрались идти, – резко и зло сказал дядя Володя. – Нас бессонница не мучает. А ты опять с
танцев идешь?
Вышел во двор, гляжу: огонь горит, вот и подошел, – ответил Иван. – Люблю костры!
Марина молчала и шуршала обертками от «Пилота».
А чего это ты на танцы не пошел? – сердито буркнул дядя Володя. – Может, боишься, что заложат тебя Полине?
Никого я не боюсь. И ничего не боюсь, – раздельно, почти по слогам сказал Иван. Он был, кажется, немножечко выпивши. И
насчет того, что просто так вышел во двор, наверное, врал. Мама как-то говорила отцу, что сосед по ночам шастает на амуры, и я,
честно сказать, не понял, что это такое, но слово – амуры! – запомнил и, желая показаться умным мальчиком, невинно спросил:
– Дядь Вань, вы не амуры ищете?
Володя хмыкнул, а Марина рассердилась:
– Паша, ты хоть соображай, что говоришь! Чушь несешь. Неприлично разговаривать со взрослыми так…
Она встала и, ни с кем не попрощавшись, шагнула в темноту. Хлопнула калитка, радостно взлаял и затих наш Шарик, зажегся свет на веранде.
У тебя с ней что? – спросил Ивана дядя Володя. – Говорят про вас всякое…
А ты уши пошире развешивай, – посоветовал Иван. – Да помни: говорят, в Москве кур доят…
И другое говорят: дыма без огня не бывает, – сухо сказал дядя Володя и, потрепав меня по плечу, посоветовал: – Шел бы ты, Паша, спать…
Что было потом, я не знаю, потому что только лег, так сразу и провалился в теплый сон – он охватил меня жаром июльского полдня и медленно вознес к белоснежным облакам, и я плыл в мягких, ласковых потоках воздуха, и все вокруг сверкало и пело, и кружился волшебный калейдоскоп звезд, и Земля была такая маленькая, что этот голубой мячик можно было взять в руки…
Дядя Володя в ту ночь повздорил с Иваном, и они, видно, крепко подрались: и тот, и другой несколько дней ходили в темных очках. А папа почему-то совсем перестал бриться и, когда прижимался ко мне лицом, его щетина колола кожу.
Петухи, – сказал папа. – Глупые петухи! Еще не понимают, что не мужчина выбирает женщину – это она выбирает, только вид
делает, будто получилось так, как захотел он…
О чем это ты, папа?
Потом поймешь…
А мама долго тебя выбирала?
Не очень, – улыбнулся папа, и лицо его посветлело. – Мы сразу друг друга выбрали…
И я почему-то представил себе наш клуб, в котором расстелили привезенные из райкома ковровые дорожки и установили большую красную тумбу с гербом страны, которой уже нет. Возле нее неподвижно, как статуи, застыли мальчик и девочка – нарядные, в красных галстуках, и каждому, кто подходил к тумбе, они отдавали пионерский салют. В стороне стояла кабинка, занавешенная желтой шторой. Туда никто не заходил: голосующие брали белые листочки у комиссии и, даже не читая их, быстрее опускали в прорезь тумбы и бежали занимать очередь в буфет. У входа в него топтался мужчина с красной повязкой. Он зорко следил, чтобы в буфет попадали только те, кто уже «выбрал». Может, взрослые выбирают так не только депутатов?
А Марина, наверное, выбрала меня. Потому что теперь, отправляясь в магазин за покупками или на репетиции драмкружка, или просто погулять, всегда говорила: «Айда со мной, Пашка!» И покупала мороженое, его тогда делали с изюмом, ванилином или клубничным вареньем – вкуснятина! И всякий раз Марина просила меня: «Ну, женишок, тайну хранить умеешь? Вон телефон-автомат, набери вот этот номер и попроси Ивана Алексеевича, ладно? А когда он ответит, дашь трубку мне…»
Голос мужчины казался мне подозрительно знакомым, но я почему-то не решался спросить у Марины, кто это. Тут была какая-то тайна, потому что Марина легким, но настойчивым движением руки выталкивала меня из будки и, маясь по ту сторону стеклянной двери, я только видел то смеющееся, то напряженное, то лукаво-капризное выражение ее лица…
Тайну я умел хранить и никому, даже маме, не рассказывал о телефонных играх. И ни словом не обмолвился о том, как однажды невольно подслушал её разговор с Мариной.
В тот день отец уехал в город: заболела наша бабушка, которая жила одна, и за ней нужно было ухаживать. Вот отец и взял три дня в счёт отпуска. Без него в доме сразу как-то скучно стало. Даже Дунька пригорюнилась: весь день пролежала на подоконнике, будто поджидала папу. А мама вечером достала из шкафчика бутылку красного вина и сказала Марине:
– Ну, что? Устроим девичник? – и рассмеялась. – Что-то так захотелось хорошего вина, – она повертела бутылку и прочитала этикетку: «Алазанская долина. Полусладкое натуральное виноградное вино». На работе к какому-то празднику давали, уже года полтора стоит. Крепости, наверное, добавилось?
– В вине главное не крепость, – заметила Марина. – В вине главное – вкус и букет. Так меня один человек учил. Грузин, между прочим, – её губы тронула лёгкая улыбка. – А уж грузины-то понимают толк в винах, поверьте мне, Лиля.
Она называла маму по имени, но всегда на «вы». И это тоже было необычно. Разница в возрасте, как мне тогда казалось, у них была не очень большая – ну, может, лет десять. В таких случаях поселковые женщины обычно обходились без церемоний, да и вообще – какой-нибудь соседской бабуське тоже дозволялось «тыкать»: «Ты, баба Феня… ты, тётя Настя…»
– Никак ты ко мне не привыкнешь, – сказала мама. – Всё «вы» да «вы». Как чужой.
– Воспитание у меня такое, – смутилась Марина. – Дурацкое, наверное. Семья интеллигентная, родители даже друг к другу на «вы» обращались. И нас с сестрой Леной воспитали уважительно относиться к другим людям.
Они продолжали диалог, не обращая на меня внимания. Мама чистила овощи для салата, Марина жарила котлеты. Она посыпала их какой-то приправой, и по кухне поплыл острый, весёлый и пряный аромат. Пахло так вкусно, что я решился напомнить о себе:
– А ужинать скоро будем?
– Ой, у Пашки уже слюньки текут! – хохотнула мама. – Хорошая у тебя приправа, Марина. Как, говоришь, называется?
– Базилик. Мама в посылке прислала.
– А, интересно, этот базилик а нашем огороде вырастет, если его семена раздобыть и посадить?
– Я вообще удивляюсь, почему в посёлке редко кто выращивает даже петрушку, – отозвалась Марина. – Не в обычае у вас, видно, зелень употреблять?
– Да, как-то не привыкли, разве что укроп растёт: его и садить не надо – сам осенью насыплет семян на грядки, они и взойдут весной, – согласилась мама. – Ну, хрен ещё в почёте, без него не обходимся. Так тоже специально никто его не выращивает. Сам растёт, где захочет! У нас главное – картошка, капуста, свёкла, огурцы, помидоры. Это существенная еда, а всё остальное – баловство, – она кивнула мне. – Сейчас, Паша, мы тебя покормим. А сами – потом, посидим, поговорим с тётей Мариной.
– Если базилик растёт на дачах под Владивостоком, то почему бы и в Хабаровске ему не прижиться? – продолжала Марина. – Мне нравится эта трава – яркий аромат, к мясу самое то! Хотите, Лиля, попрошу семян у своей сестры?
– Ага, – кивнула мама. – Хочу. Буду готовить, как городская, – она коротко хохотнула и, дурачась, провозгласила: Да здравствует котлета – произведение кулинарного искусства!
Марина засмеялась. Её котлеты оказались необыкновенно вкусными. Я слопал целых две, и ещё бы попросил, но, как говорится, больше пуза не съешь.
Женщины отправили меня спать, а сами постелили нарядную скатерть и принялись накрывать стол. Засыпая, я слышал их веселые голоса, позвякивания вилок и бокалов.
Проснулся я оттого, что захотел в туалет. Взял фонарик и, оступаясь спросонья с деревянного настила-дорожки в мокрую траву, побрел в дощатый туалет. Там в углу сплёл паутину большой чёрный паук. Я его побаивался: пацаны говорили, что у пауков ядовитая слюна, и если они укусят, то помрешь в страшных мучениях.
Несколько раз я сбивал паутину, но паук снова и снова старательно восстанавливал её. Нападать на меня, чтобы отправить на тот свет, он явно не хотел, и я постепенно свыкся с его присутствием в туалете. Но всё равно побаивался.
На этот раз, однако, я даже не обратил на паутину никакого внимания. Меня занимала совсем другая картина. Фонарик я положил на бок рядом с собой. На его светящуюся линзу тут же села маленькая ночная бабочка. Она была серой, невзрачной, с большим толстым животиком. Но каким фантастичным получилось её отражение в круге света на стене!
Луч фонарика, как рентгеновский аппарат, высветил и увеличил через линзу крылья бабочки, сочленения её лапок, темное туловище, в котором что-то трепетало – наверное, сердце. Каждая точка и чёрточка крылышек, отраженные на стене, были расплывчатыми, как будто акварелью капнули на мокрую бумагу. От этого рисунок приобретал фантастический вид: бабочка двигала крылышками – и размытые очертания менялись, перетекали друг в друга, волновались, будто подводные заросли неведомых растений. Её усики свивались и снова распрямлялись – на стене они превращались в двух змеек.
Обыкновенный мотылёк оказался большим странным существом. Ну, кто бы мог подумать, глядя на эту серую козявку, что она способна превратиться в нечто загадочное? Если бы не линза фонаря, то я бы тоже никогда ничего подобного не увидел. Значит, мы не всегда видим то, что видим, так, как оно есть на самом деле? Привычное потому и привычное, что не пытаешься взглянуть на него как-то по-другому.
Потревоженный паук зашевелился в своей паутине, а, может, его заинтересовала бабочка на фонарике. С паутины на меня упало несколько холодных капель росы. Я поёжился, схватил фонарик и выскочил из туалета.
Мама и Марина всё ещё сидели на кухне. Кажется, они даже не обратили внимания на то, что я выходил на улицу.
– Сама не пойму, почему у всех мужчин, которые меня любят, жизнь не складывается, – говорила Марина. – Мне это и цыганка нагадала. Только я тогда не поняла смысла гадания. Представляете, Лиля, она раскинула карты, глянула в них, потом – на меня, жутко так глянула, смешала все карты и сказала: «Ничего я тебе не скажу. Не надо тебе будущее знать. Одно только скажу: останешься с тем, кого сама полюбишь. А будет ли он тебя любить – о том не скажу, сама узнаешь…»
– Странно, – сказала мама. – Если у мужчины сердце к женщине не лежит, то какая может быть любовь?
– Всё может быть, – ответила Марина. – Например, расчет. Говорят, что некоторые женятся на красивых женщинах лишь только потому, что это престижно.
– Глупости, – отмахнулась мама. – Это где-нибудь в Америках без любви обходятся, а у нас – совсем другое дело: брак по расчету – пережиток, никто не заставит женщину выйти замуж насильно.
– А если она сама любит того, который её не любит? – спросила Марина. – Но, допустим, он как честный человек обязан на ней жениться…
– Это, в смысле, она от него забеременела? – уточнила мама.
– Ой, Лиля! – рассмеялась Марина. – Мы такие пьяные, целую бутылку вина выпили, и оттого всякие глупости сейчас говорим…
– И ничего не глупости, – не согласилась мама. – Если хочешь знать, то пока я Пашку под сердцем носить не стала, мой-то и не думал предлагать руку. А как узнал, то, знаешь, особой радости я не почувствовала: он, оказывается, собирался ещё в институт поступать учиться, мало ему техникума, видишь ли. Но всё же не сказал, что ребёнок помехой будет – мы расписались, муж за двоих работал, старался, заочно в институт поступил. Тяжеловато, конечно, ему пришлось: с утра до ночи вкалывает, потом – помогает Пашкины пелёнки-распашонки горячим утюгом гладить, чтоб никаких микробов на них не осталось, за полночь над учебниками сидит, зубрит всякую премудрость. Я тоже ему помогала: набело переписывала его рефераты и контрольные работы. Ничего, всё осилили. Муж теперь у меня учёный. Не то, что я. Но я из-за Пашки учиться дальше не пошла.
– Лиля, все говорят, что вы – хорошая медсестра, – заметила Марина. – Может, это и есть ваше призвание.
– А я хотела врачом стать, – вздохнула мама. – Но получилось так, как получилось. После медучилища приехала сюда по распределению, думала: год-другой отработаю, а там в мединститут документы подам. А тут на мою бедную головушку свалилась любовь в виде молодого специалиста, – мама засмеялась, – Ну, ты понимаешь, Марина, что в таких случаях бывает: закружилась головушка-то, я сама не своя, только стоит о Василии подумать – сердце птичкой в груди бьётся, он для меня – всё на этом свете, и лучше его никого нет. До сих пор, Марина.
– Счастливая вы, Лиля, – сказала Марина. – У вас с Василием полная взаимность. А вот я саму себя никак не пойму. Сначала мне кажется, что люблю человека, а потом оказывается, что это и не любовь вовсе, а только кажется. Мираж какой-то. Выдумка. Потребность в чувствах, но не сами чувства.
– Как-то ты мудрёно говоришь, – голос у мамы стал напряжённым; он у неё бывает таким, когда она чего-то не понимает или думает, что её разыгрывают. – Что значит – потребность в чувствах?
– А давайте ещё выпьем, – предложила Марина. – Что-то мы с вами даже и половину бутылки ещё не осилили. Выпьем – и я что-то расскажу.
Я слышал, как горлышко бутылки звякнуло о бокал, полилась струйка вина, потом тихонько звякнул другой бокал. Женщины молчали. Мне казалось, что они хотя бы тост какой-нибудь скажут – так, вроде бы, полагается у взрослых, но молчание у них затянулось. Однако Марина, в конце концов, произнесла:
– Ну, Лиля, каждый – за своё! Прозит!
Что значит это «прозит», я тоже не знал. Но решил, что слово обозначает, видимо, что-то типа «ну, будем!» – так обычно мужики говорили, когда выпивали за игрой в домино.
– Ага, – отозвалась мама. – Будем!
Они выпили, помолчали. Наверное, закусывали: застучали вилки о тарелки, что-то мягко упало на пол – скорее всего, кусочек хлеба. Мама засмеялась:
– Ну, всегда так: не поваляешь – не съешь.
Марина молчала. Наверное, она улыбнулась маме в ответ. Она, если не знала, что сказать, всегда улыбалась – как-то беспомощно, стесняясь.
– Готова? – спросила мама. – Ты мне хотела что-то рассказать.
– Потребность в чувствах есть у каждого, – ответила Марина. – Только не каждый способен отличить их от самого чувства. Вот вам, Лиля, не кажется ли, что нам с детства внушают, что без любви прожить нельзя? Это, мол, то, что движет солнце и светила – так сказал какой-то великий поэт, кажется, Данте…
– Он самый, – подтвердила мама. – Василий мне декламировал его стихи. Хорошие! Мне нравятся.
– Девчонкой я только и слышала о том, что самое лучшее, что есть на свете, – любовь, – продолжала Марина. – Родители мне всякие книжки подсовывали: «Алые паруса», например, или «Первую любовь» Тургенева, заставляли «Пер-Гюнта» слушать, восхищались Пенелопой из «Одиссеи»: вот, мол, какая у неё сильная любовь была – дождалась своего любимого мужа, не согласилась выходить замуж, верность ему соблюла..
– А что ж в том плохого?
– Да, может, и нет ничего плохого, – Марина рассмеялась по-русалочьи заливисто. – Только, знаете, Лиля, я вдруг представила: Пер-Гюнт прошёл огонь, воды и медные трубы, женщин у него было не сосчитать, а дома его ждала дурочка, которая за это время состарилась, – и что же? Вот счастье-то, принять мужчину, который свои лучшие годы провёл не с ней. А тот же Одиссей? Можно подумать, что он хранил верность бедной Пенелопе, которая без него взвалила на плечи все тяготы и беды. Она, конечно, дождалась его. Ну, сами, Лиля, подумайте: Пенелопа за это время из красавицы тоже превратилась в стареющую женщину. Лучшие годы позади, у неё, скорее всего, уже климакс, извините – какая тут любовь?
– Любви все возрасты покорны, – сказала мама. – Мужчины так уж устроены, что не всегда приходят к своей женщине сразу. Они не любят прямые дороги, вечно их заносит на обходные тропинки…
– Да вы философ, Лиля, – усмехнулась Марина. – Вот и я подумала почти о том же самом. Но у меня возник совсем простенький вопрос: почему мужчинам разрешается многое, а женщинам – нет? Несправедливость какая-то. И почему я должна радоваться, что какой-то прыщавый юнец соизволил обратить на меня своё благосклонное внимание? Может, я дурочкой была, но, знаете, когда одноклассник – его звали Миша – начал мне писать всякие записочки, я его высмеяла. Взяла и прочитала всему классу на переменке его стихи, посвященные мне: «О, юная богиня, ты лучше всех на свете – это понимают даже дети…» Ну, и всё в том же духе. Нескладушки такие. Может, и от души он писал, но – банально. А мне казалось, что в любви никакой банальности не бывает. Она уникальна и неповторима.
– Зачем же ты так его опозорила? – спросила мама. – Он ведь тебе открылся, и он не предполагал, что ты высмеешь его таким образом. Лучше было бы сказать ему, что он тебе не нравится, вот и всё.
– А я говорила, и не раз, – Марина вздохнула. – Мишка ничего не захотел понимать. Знаете, что он мне заявил? «Всё равно ты будешь моей!» Вот что он мне сказал. Ах, так?! Он меня рассердил: что, я вещь какая-нибудь, чтобы быть чьей-то? Но Мишка был, что называется, первым парнем: девчонки просто с ума по нему сходили – он и спортсмен, и отличник, и ростом выше всех других пацанов, и усы у него уже в восьмом классе пробились, и, как говорили, к десятому классу он перепортил нескольких своих воздыхательниц, представляете?
– Ой, не знаю! – голос у мамы был испуганный. – Я бы без оглядки от такого парня убежала! Что ты, у нас был в классе один такой хулиган, из плохой семьи. Приличные девчонки старались с ним вообще не говорить.
– А Миша – из приличной семьи, – засмеялась Марина. – Просто у него ранняя гиперсексуальность была…
– Что? – не поняла мама.
– Ах, да! Вы же, наверное, Нойберта не читали, – сказала Марина. – В Советском Союзе это пока единственная официально изданная книга об интимных отношениях мужчины и женщины. Но, говорят, её в библиотеках всё равно нет. А я нашла её у папы в кабинете и, конечно, прочитала. Мне стало ясно, что некоторые мальчики слишком рано созревают в физиологическом плане – им нужна женщина, для разрядки, только и всего. Но им кажется, что это любовь. Так что я прекрасно понимала, почему Мишка на меня внимание обратил.
– Может, это всё-таки любовь была? Не всё же у мужчин только в физиологию упирается.
– Может, – согласилась Марина. – Скорее всего, у него были чувства. Знаете, он так смотрел на меня, – она выделила слово «так». – Мне даже жутко становилось: его глаза странно светлели, и, казалось, никого, кроме меня не видели. Ясные, светлые глаза, а зрачки – чёрные, и в глубине их полыхает огонь. Нет, даже не огонь, а как бы это объяснить? – Марина помолчала и, волнуясь, продолжила. – Это как отблески далёкого костра. Будто внутри него горело пламя, отражаясь в зрачках.
– Любил он тебя, – категорично сказала мама. – Такой взгляд о многом говорит…
Я услышал, как со стола упал бокал: он глухо ударился о пол и, видимо, подскочил, потому что снова послышался удар – и тут же зазвенели осколки стекла, весело рассыпаясь по половицам.
– Ох! – воскликнула Марина. – Боже мой!
– Ничего, – успокаивала её мама. – Посуда бьётся – жди удач. Не расстраивайся! У нас это не последние фужеры. Подумаешь, разбился. Ну и чёрт с ним.
– Это Мишка о себе напомнил, – вдруг сказала Марина, и голос её был напряжённым, каким-то чужим и непривычным. – Иногда мне кажется, что он где-то рядом, не хочет отпустить меня.
– А вообще, где он сейчас по жизни? – спросила мама.
– Его больше нет, – Марина говорила медленно, будто каждое слово давалось ей с трудом. – Во всём я виновата. Лиля, не смотрите на меня так. Я не с ума сошла. Да, я виновата. Он из-за меня погиб.
– Да как же так?
– Глупо всё получилось, – у Марины, наверное, перехватило горло: голос звучал тихо, с натугой. – Одноклассница пригласила меня на день рождения, там и Миша был. Веселились, пели песни, забавлялись всякими играми, танцевали под проигрыватель. Поставили, как сейчас помню, пластинку «Тихо солнце с морем прощалось…» Миша ко мне подошел: «Приглашаю!» А я: «Не танцую!» Тут другой парень ко мне подскочил, и – последняя дура! – изобразила на лице эдакую холодную усмешку, обняла партнёра за шею и… В общем, показала, что умею танцевать страстное танго. Когда музыка отзвучала, Мишка снова поставил ту же самую пластинку и, бледный, решительно опять подошёл: «Теперь со мной потанцуешь?» Я – ни в какую не соглашаюсь. Тогда, знаете, что он сделал? Забрался на подоконник, свесил ноги и говорит: «Не веришь, что люблю? Хочешь – докажу?» Я рассмеялась: «Что? С девятого этажа спрыгнешь, что ли? Прыгай! Мне всё равно». А он посмотрел на меня – это словами не передать: с отчаянием, ненавистью, обожанием, и сказал: «Измучила ты меня. Если я тебе не нужен, то и я сам себе не нужен. Танцуй дальше!» И прыгнул…