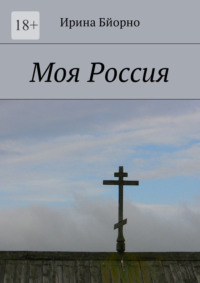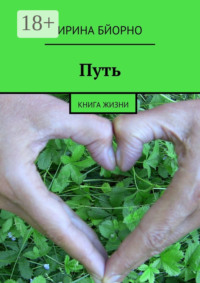Полная версия
Вкус бабьего лета. Рассказы о современницах
Перед ним открылась её дряблая кожа старческих ног и вялый, вывалившийся в межножье, клиторис, но он профессионально приподнял её со стула и ловко застегнул новый подгузник. Потом одел трусы и юбку.
Эстер чувствовала себя странно от этой помощи постороннего мужчины, который не видел в ней больше ни капельки от той женщины, которой сделал её когда-то бог. Для него она была андроидом, бесполым существом, которое он обслуживал профессионально и за деньги, но к которому относился как к цветку в горшке – безразлично и бездумно.
За время этого визита он не сказал ни слова и только перед уходом, формально, пожелал ей хорошего дня.
– Да! Жди – хорошего! Какого ещё хорошего? – ворчала она про себя.
– А нового кофе не сделал – придется опять звонить в кнопку. Нет, да ну этот кофе к лешему! Лучше уж джину с содовой – и забыть об этой постылой жизни с подгузниками и неходящими ногами в вечном кресле у стола. Нет!
Она явно устала от такого турбулентного утра и решила поспать. Тут в комнату заглянула Наталья, улыбаясь:
– Нужно что-то?
– Да, голубушка, устала я да и кофе разлила. Помоги мне до кровати добраться!
Наталья подошла, обхватила Эстер за талию и медленно повела старушку к кровати. Эстер охала и просила несколько раз остановиться и перевести дыхание.
Хотя до кровати было только два метра, на эту процедуру перемещения ушло пять минут. Она легла в кровать, посмотрела на Наталью и жалобно, как ребёнок, попросила принести себе ей джина.
– Ты знаешь – из бутылки на кухне.
Кухня была тут же в комнате и занимала крохотный угол, где стоял маленький холодильник, висел шкафчик с посудой и была маленькая одноконфорочная электрическая плита. Джин стоял в нависном шкафчике, спрятанный за пачку с сахаром.
Наталья улыбнулась и кивнула головой. В доме запрещалось давать алкоголь его обитателям, но она знала, что иногда правильный образ жизни не приводил к счастью, и алкоголь – пусть в небольших количествах – помогал иногда этим старым, ненужным никому людям забыть об их пустой, неинтересной жизни.
Наталья достала бутылку с джином, налила его – но не в стакан, а в поилку с носиком – и долила холодной минеральной воды с пузырьками.
Эстер уже лежала в кровати, укрытая одеялом. Она взяла поилку в свои старческие руки, покрытые выступившими венами и усыпанные старческой горчицей коричневых пятен смерти, и стала сосать через носик сделанную заботливои рукой Натальи ядовитую смесь алкоголя с минеральной. Перейдя в тело Эстер, смесь попала в её кровь и стала разноситься по всему телу, давая мускулам расслабиться, а мозгу – забыть о происходящем. Лицо ее порозовело, а глаза чуть замутились.
– Иди теперь, спасибо тебе! – сказала Эстер Наталье, и та вышла из комнаты. А Эстер перенеслась в мир грёз и мечтаний, забывая о своём старом и немощном теле. Пары алкоголя перенесли её в свой старый особняк у моря, который она передала ещё десять лет назад своим двум сыновьям, чем создала между ними вражду, да и их она не видела с тех пор – они, вместе с их детьми и детьми детей, были заняты своими делами, совершенно не интересуясь её, Эстер, угасающей, еле теплящейся жизнью. Кроме усадьбы у неё ничего не было, поэтому, получив и разделив наследство, она стала своей семье больше не нужна и неинтересна.
А когда-то, семьдесят лет назад, Эстер была первой женщиной в Скандинавии, создавшей свою фирму детской одежды, ставшей знаменитой на всю Европу. Тогда она была молодой вдовой с двумя маленькими детьми на руках и не имела ни малейшего опыта создания ни фирмы, ни бизнеса. Но как-то надо было ей выживать после трагической смерти её мужа в годы войны – хотя он никогда не был на фронте – просто была глупая, роковая случайность: он был в том месте, где стреляли, – и вот она осталась одна, с детьми, без мужа и без малейшего понятия, как делать деньги.
Она решила открыть первый магазин недорогой, но удобной скандинавской одежды для детей – и попала в точку. После войны начался детский бум, и её небольшое дело расцвело так, что она через некоторое время была уже совладелицей нескольких магазинов, а через пять лет открыла филиалы в соседней Швеции, Германии и даже в консервативной Швейцарии.
Эстер всё время отдавала фирме и своим сыновьям, так и не встретив мужчину в своей жизни, и довольствуясь короткими, не обязывающими ни к чему, одиночными связями. Так она и состарилась.
Сыновья окончили университеты, один стал адвокатом, а второй – врачом в госпитале, а она купила себе виллу у моря, где только спала, проводя всё своё время на фирме. Но тут пришли новые времена, когда одежду стали завозить партиями из Таиланда и Китая, наводняя эстетический скандинавский рынок дешевой одеждой низкого качества, и она, почувствовав изменения, шедшие как с востока, так и из запада – с американской компьютеризацией и глобализацией всего мирового рынка, она продала фирму за хорошие деньги и стала охотиться за впечатлениями, пересаживаясь с одного самолёта на другой и с одного корабля на другой. Она объехала почти весь мир, видя везде приблизительно одно и то же – глупость, недальновидность, жадность, ложь на фоне потрясающе красивой и иногда очень опасной природы, которая отдалялась от человека всё больше и больше.
К семидесяти годам ей стало трудно ходить, отели надоели, а есть она много не хотела, так как тяжелой работой больше не занималась и не уставала физически. Она поняла простое правило – люди на всей земле жили, чтобы есть и развлекаться, пропуская через свои всеядные желудки всё, что было живого и неживого на земле. Еда была главным центром общности и удовольствия почти на всём земном шаре, и лишь в тибетских монастырях она наблюдала отказ от этого ежеминутного убийства окружающей природы ради своей, в основном довольно ничтожной, жизни – да и то йоги не были не признаны нигде, как нормальные члены общества, оставаясь в своем полузагадочном статусе магов-бездельников. Но их было и мало, очень мало, по сравнению с армией день и ночь жующих чего-то людей.
Эстер ела теперь мало, но и этого было ей достаточно, чтобы испытывать временами чувство вины перед природой, которую она уничтожала, ничего не давая взамен, кроме дурно пахнущих испражнений. Тело её сдавало, но мозг работал, хотя и без прежних звёздных часов, наполненных фантазиями и неожиданными открытиями – пусть небольшими.
В этот день она проснулась через час после своего беспокойного воспоминаниями сна, возвращающими её опять и опять в прошлое, которое давно не существовало, ощущая неприятный привкус во рту – «наверное, от алкоголя» – подумалось ей.
Эстер опять проснулась всё в той же надоевшей ей кровати и опять почувствовала боль в своих умирающих ногах. Боль была колючая и неприятная, заставляя её думать о ногах, а не о том, что ей хотелось в туалет, до которого было не дойти самой, и она, опять отпустив свою брезгливость – со смирением – пустила струйку в ненавистный ей бумажный подгузник, к которому была привязана последние пять лет. Подгузник принял её жидкость в себя, оставляя её промежность почти сухой.
Она решила не звонить дежурному. Она лежала и слушала музыку, доносившуюся из радиопрограммы невыключенного телевизора. Исполняли Моцарта «Времена года» – и она знала каждую ноту, каждый тон этой салонно-отельной и все же всегда приятно отражающейся в мозгу музыки этого полупьяного и полусумасшедшего гения – подростка, так и не выросшего из юности и куролесенья.
Эстер, как и все еврейки, любила музыку, но особенно еврейскую, зажигательную, восточную, колдовскую и зовущую неизвестно куда, хотя слушала её редко. Она была еврейкой по крови, но не по жизни, вышедшей замуж за немца и сделавшей с ним двоих умненьких мальчиков. Но муж её умер ещё в начале Гитлеровского исхода из своего Байерско-Австрийского гнезда, а ей пришлось бежать от него в нейтральную Швецию, приютившую евреев изо всей Европы, где она и начала своё дело с продажей качественной одежды для детей.
Теперь же она страдала от мокрого подгузника, неживых ног и неработающего желудка. В Швеции у неё появились две лучшие подруги – тоже из еврейских переселённых Гитлером семей, которые оставались её лучшими друзьями долгие-долгие годы, даже когда одна из них, Роза, уехала в далекую Америку, а Мирта – в Голландию.
Все трое женщин были одного возраста, национальности, темперамента, и они ежегодно собирались вместе на каникулы – то в Швеции, то в Америке, то в Париже.
Когда им исполнилось около восьмидесяти, то они – будучи на одном из круизов по Средиземноморью все вместе – решили, что обязательно проведут свой общий столетний юбилей в маленьком местечке Германии со смешным названием Хопфен, в Баварии, на границе с Австрией на берегу озера, где по вечерам были видны розовые горы, запомнившиеся Эстер во время её поездки с мужем на каникулы после рождения их первого сына.
Она часто рассказывала своим подругам о розовых горах, тихом озере с форелью и белыми лебедями, о ласточках, щебечущих по вечерам и о том особом духе этого места, охраняемом грозной богиней Ба-Варией, веками не допускающей разрушения этой многовековой красоты.
Но это всё были неосуществимые мечты. На прошлой неделе Эстер получила письмо из Голландии о том, что ее подруга, Мирта, умерла от болезни Кройцфельд-Якова, которую называли в народе болезнью бешеных коров и так и не знали, откуда эта болезнь берется и как ее лечить. Эта болезнь ежегодно уносила жизни пяти-шести несчастных в маленькой Голландии, а в этот раз она решила поразить мозг Мирты, и через шесть недель та скончалась в госпитале.
Оставалась Роза, которая уже десять лет страдала старческим маразмом, который стали именовать модным и непонятным словом синдром Альцгеймера, так и не зная, как ее лечить. Она жила не в доме престарелых – этого бюджет её сына просто не выдерживал – а в семье эмигрантов-поляков, в штате Монтана, которые за деньги ухаживали за старой маразматичкой, а деньги платили ее дети, не желающие иметь дома опасного существа, не помнящего ни своего имени, ни как выключить электрическую плитку, и покупающие за деньги свободу и спокойную совесть.
Эстер осталась одна из троих, как говорили, в светлом рассудке, но радости от этого было мало. Она бы предпочла как Роза – ничего не помнить, или как Мирта – заболеть таинственной болезнью и умереть, но видно, ей не было дано ни того, ни другого.
Тут дверь в комнату открылась и вошла ночная сиделка – африканка Лора.
– Эстер, время ужина, – улыбаясь, сказала она.
Лора помогла Эстер подняться с кровати, проводила её в туалет, сменила подгузник и усадила старушку всё в то же кресло около стола. Потом принесла из коридора, где стоял раздаточный столик на колесиках, поднос с ужином – картошка, котлетка с подливкой и десерт – сегодня это был шоколадный пудинг. В стакане была налита простая вода.
Она поставила поднос перед Эстер и сказала с дежурной улыбкой:
– Приятного аппетита, я приду через полчаса и заберу поднос.
Она торопливо вышла, оставив Эстер одну – у неё было ещё четыре клиента.
Эстер взяла в руку чашку с шоколадным пудингом, обмакнула свой палец и лизнула, как ребенок, палец.
– Ну и пожалуйста! Буду есть только шоколад! Вот вам!
Она пригрозила кому-то невидимому пальцем и засмеялась.
За окном заходило солнце, а где-то далеко, на юге Баварии, закат уже поцеловал Альпийские горы, и маленький спящий городок Хопфен окрасился в нежно-розовый цвет, отражающийся в водах тихого озера.
Милочка
Милочка лежала на полу в спортивном зале фитнес клуба и улыбалась себе. Было десять часов вечера, и она только что закончила тренировку, которую она вела – стрип-пластика для женщин.
Все ученицы, получив свою порцию женственности, не растраченной во время скучного и неэротического рабочего дня, ушли домой, даже не заметив ее нарастающей боли, от которой Милочке хотелось плакать, но она плакать не могла.
Во время последнего часа тренировок она вдруг услышала, как в ее левой икре что-то хрустнуло и разорвалось.
– Наверное, связка, – подумала она в тот момент, но продолжала тренировку.
Теперь же, когда все разошлись, она лежала на полу, улыбаясь от боли. На ногу она не могла ни наступить, ни ею пошевелить. Тренировочный зал был на третьем подземном этаже, в глубоком подвале, куда вела винтовая, крутая лестница, а лифт уже отключили, экономя дорогое электричество по вечерам.
Она поднялась кое-как с пола и запрыгала, как могла, на одной ноге, в раздевалку. Открыв шкаф ключом, она оделась – а на улице стоял еще мороз – и запрыгала по винтовой лестнице вверх – ступенька за ступенькой, сохраняя на лице улыбку.
– Опять забыла рыбий жир, – подумала она.
Она не верила в могущество рекламируемых витаминов, а к лекарствам относилась с подозрением, принимая их с неохотой и только в крайней необходимости, но верила почему-то в могущество рыбьего жира, который принимала каждый день утром и вечером. В тот день она забыла выпить рыбий жир.
Забывала она часто и много, записывая в свою книжицу все часы тренировок, деловых встреч и приходящие в голову мысли, хотя писание давалось ей с трудом. Она писала медленно, высунув язык, как собака, и облизывалась, причмокивая, выводя буквы. С телефоном было не легче. На написание одного SMS уходили дорогие минуты жизни, а на чтение еще больше. На звонивший телефон она отвечала редко, так как любой разговор надолго вырывал ее из дневного, тщательно разработанного и проверенного ею много раз плана. Отклонение от плана приводило Милочку в хаос и депрессию. Милочка была больна.
Она доскакала на здоровой ноге до верхнего этажа фитнеса и, открыв дверь с трудом – на ее плече была тяжелая спортивная сумка, поскакала к стоянке машины. Открыв свою старенькую пежо, Милочка рухнула в машину и стала думать, как она будет жать на тормоз больной ногой.
Ничего не придумав, она завела машину и, превознемогая боль, поехала домой, к мужу, кошкам и рыбьему жиру. Через двадцать минут машина уже заезжала в гараж небольшого домика, приютившегося на старинной улице столичного пригорода, и она, кое-как вывалившись из машины, запрыгала к крыльцу дома. Было уже около полночи. Муж и кошки давно спали. Милочка допрыгала до кухни, выпила стакан воды с двумя капсулами рыбьего жира и, сняв одежду, забралась в постель к мужу. Тот проснулся, повернул свою голову к Милочке и улыбнулся:
– Ты уже дома, дружок?
Милочка проагакала в ответ, поцеловала его, забралась в его пахучую чем-то родным и мужским подмышку и сладко уснула. День был закончен. Все её планы были выполнены. Она знала, что завтра она не будет помнить больше об этом дне, живя только настоящим – такова была природа её болезни, ежедневно стиравшей память прожитого, но оставляя на теле Милочки знаки истории в виде первых морщин, растяжек на животе от родов, усталых мускулов, а теперь – и порванных в левой икре связок.
Милочке было тридцать шесть лет, она была замужем третий год, и её сыну, больному той же болезнью, что и она, но в более тяжелой форме, было уже семнадцать. Болезнь её была врожденной, генетической и называлась непонятным названием в четыре буквы АДХД, – за которыми пряталась ее судьба.
Болезнью её наградила её родная мама через свои, нечистые, неселектированные случайные гены. Свойства этой болезни усиливались с каждым поколением, как рисунок под увеличительным стеклом. Она проявлялась по-разному – как недостаток внимания, недостаток памяти, болезненный контроль за ситуацией, неприемлемость неожиданных поворотов в ежедневной жизни.
В следующем поколении она могла проявиться как мания, сомнительность, неспособность читать и писать, неспособность к ориентации в общественных, запутанных законом неестественных ситуациях-ребусах, таких, как добывание нужных документов, принятие участия в так называемых демократических играх общества, поддержание общественных связей и отношений, использованиe друг друга, называемого по ошибке «дружбой».
У Милочки болезнь была во втором поколении и проявлялась в том, что она не смогла окончить школу, получить образование, кроме танцевального, которым она занималась с шести лет. Там не нужно было ни писать, ни читать, ни считать, а её тело – длинное, стройное и гармоничное – было создано для движений и танцев.
Она занималась классическим балетом – но недолго, танцевальным джазом, аэробикой и современными танцами, тренируя свою дырявую, в действительном смысле, память в запоминании замысловатых движений и их комбинаций.
С раннего возраста она поняла, что танец – её единственное спасение из лап болезни, и только в танце и на сцене она чувствовала себя полноценной и счастливой. Но годы шли, и её танцевальные подруги поступали кто в высшую школу балета, кто – в университет, кто в школу фитнеса, где было отделение инструкторов для спортивных танцев, а она – с трудом читая и не умея почти считать – была выброшена за борт жизни своим невидимым врагом – болезнью с некрасивым названием АДХД, от которой спасенья не было.
Ее мать, чувствуя свою вину и любя по-своему эту странную девочку, необычайно ласковую, но не помнящую, что было вчера, и переходящую в состояние депрессии, если ей задавали простой вопрос:
– Как у тебя дела?
Пробовала все – хилеров, экологическую пищу, массажи, но ничего не помогало, а Милочка, как её все звали, устала ото всех этих бесконечных экспериментов своей мамы. Она решила про себя, что выживет сама, раз её такой сделали. Выживет.
В пятнадцать лет она обнаружила, что красива и имеет успех у противоположного пола, который мало интересовался её интеллектуальными способностями к письму и географии, зато рукоплескал, когда она облизывала свои накрашенные губки и хлопала своими подчернёнными краской миндалевидными глазами. Она вытянулась и стала почти двухметрового роста, но при этом была гармонична и мила. Настоящая Милочка!
Гуляя по вечерним улицам столицы, она однажды попала в район проституток и ночных баров, и эти огни привлекли её наивное, чистое существо. Она вошла в один из ночных баров, где на сцене медленно танцевала под эротическую музыку, раздеваясь и кокетничая с поедавшими её глазами мужчинами, небольшого роста девица в блестящем полупрозрачном костюме со страусовыми перьями, и Милочке ужасно захотелось оказаться на этой сцене, освещаемой огнями, и медленно танцевать для этой публики.
Она не заметила, что публика была нетрезва и состояла почти только из мужчин, среди которых сновали полуголые кокетливые официантки, одетые только в наколки на голове и кружевные переднички, зато её внимание поглотил танец на сцене.
Она подошла к бармену и спросила, нужна ли им танцовщица. Бармен позвал кого-то из задней комнаты, кто оказался владельцем стрип-бара, он посмотрел на Милочку и коротко сказал:
– Завтра в шесть вечера, костюмы подбери в костюмерной, цена за пять минут – сто евро (он занизил цену в три раза). Согласна?
Милочка улыбнулась и сказала:
– Да!
– Как зовут?
– Милочка.
– Ок, ты будешь выступать под именем Лулу.
Она прибежала домой счастливая! Ей дали работу! Она будет сама зарабатывать деньги! Она ничего не сказала своей маме, и долго кружилась по комнате, улыбаясь сама себе.
Она нашла свою старую музыку, под которую часто танцевала дома одна, и стала репетировать свой номер. Она подходила очень серьезно к своим выступлениям и репетировала целый вечер.
На следующий день она была к шести в баре. Ей показали гримёрную, которая выходила на задний двор, грязный и облезший, а в гримёрной был навален ворох костюмов для танцев и стояла корзинка, в которой лежали краски для грима. Она включила лампочки по сторонам большого зеркала и начала краситься.
К десяти вечера в гримёрную пришли ещё три девочки.
– Подвинься! – сказала одна из них, поставив свою сумку на пол.
Милочка улыбнулась и сказала:
– Пожалуйста!
Она не умела сердиться и обижаться. Её мир был розовым, как и одежда, которую она себе покупала в магазине – розовую, блестящую, более детскую, чем взрослую.
Около одиннадцати вечера дверь в гримерную открылась, и голос сказал:
– Лулу! На выход! И музыку не забудь, передай диск жокею.
Милочка вздохнула, улыбнулась себе и вышла на сцену. Нагнувшись, она передала диск на музыкальный центр, выпрямилась, приняла позу и стала ждать первых звуков музыки.
Когда звуки наполнили весь этот дешевый стрип-бар, она начала свой танец, забыв о публике, запахе алкоголя, царапающей её тело одежде стиля кабаре и свою болезнь. Она танцевала медленно и эротично, растворяясь в каждом движении и танцуя скорее для себя, чем для публики.
Те, кто был в баре, перестали разговаривать и пить, притянутые танцем Милочки. Движения её были не вульгарными, а скорее, манящими и завлекающими, они будили в этих людях, пришедших в бар, чтобы забыть свою неинтересную ежедневную жизнь, а может, и от скуки семейной надоевшей, однообразно тоскливой рутины, мечту о чем-то недостижимом и манящем, эротическом и запретном, сладком и трепетном.
Когда её танец закончился, зал замер, и Милочка, под восхищенные взгляды мужчин и завистливых женщин, ушла со сцены. Она была как под гипнозом. Внутри неё все пело и танцевало, и хотело опять на сцену, к огням рампы.
В гримерную вошел директор.
– Молодец, Лулу! Вот твои деньги.
Он протянул ей сто евро, она по – детски улыбнулась, взяла деньги и спросила:
– Завтра в шесть?
– Да! Завтра в шесть.
Так она стала стриппой, танцовщицей баров и стрип-дискотек. Через три месяца она танцевала за ночь уже в трех-четырех местах, зарабатывая приличные деньги. Она уехала от мамы (отец жил отдельно уже много лет), сняла комнату в городе и накупила себе множество танцевальных костюмов и макияжа.
Друзей у неё не прибавилось, зато появилось несколько вздыхателей, желания которых были очевидны – её длинное, грациозное, женственное тело, которое умело выразить высшую гармонию женщины в плавных и томных эротичных движениях.
Известность её росла, а вместе с известностью открывались возможности проявить себя в других городах и даже странах. Несколько агентов, увидевших её танец, пригласили её танцевать в ночные клубы Европы, обещая хорошие деньги и условия работы. Она подписала контракт, не читая – ибо читать не умела, и уже через полгода была вывезена в Европу, танцуя по неделе в каждом клубе.
Она была в Германии, Греции, Италии, танцуя в ночных клубах, где выступали и другие девушки, особенно из России и Украины – с хорошей техникой танца и растяжками на шпагат – многие из них были бывшими гимнастками, – но не излучающими ту детскую радость и непосредственность, которой отличалась Милочка, благодаря своей болезни.
Она все еще была девственницей и не спала ни с кем из своих вздыхателей. Ей было семнадцать. Когда наступило лето, она оказалась в Афинах, танцуя в большом ночном баре. Туда каждый день приходил грек с голубыми глазами и светлыми курчавыми волосами смотреть на ее выступления. Она и не знала, что есть греки с голубыми глазами, и он показался ей принцем из её снов.
Когда он предложил ей поужинать вместе после танцев, она согласилась_ первый раз в ее жизни, а он, напоив ее шампанским за ужином – алкоголь влиял на неё сильно – потащил в какой-то отель. Она не помнила больше ничего, но когда она почувствовала боль в своем теле, она очнулась от своего забытья, хотя было уже поздно: молодой греческий Апполон лежал на Милочке, нисколько не заботясь о её чувствах и ощущениях.
Так прошло её крещение в женщину. На следующее утро у неё болело между ног и, когда она ходила в туалет, немного шла кровь. Она решила разорвать контракт и уехать домой. Денег ей заплатили мало – только на обратный билет, но она спешила домой, чтобы забыть эту ночь, мужские вороватые глаза и, как ей казалось, мужской обман. Кто кого обманул, она не знала, но чувствовала несправедливость жизни.
Дома она обнаружила, что забеременела после той ночи, но аборт делать не стала, а решила рожать того, кто получится. Почти всю беременность она протанцевала в барах, зарабатывая деньги на ребенка.
И вот через девять месяцев, как положено, она родила сына, белокурого, голубоглазого, похожего на Аполлона и больного.
Она передала ребенку свои больные гены вместе с генами неизвестного грека, и её часть усилилась в этом малыше – красивом, как ангел, и больном, как инвалид.
Если Милочка еще могла читать по складам и медленно, то Милочкин сын не мог видеть различия ни в буквах, ни в цифрах.
Он был из породы тех детей, выращиваемых на ретадине, или амфетамине (ретадин был скрытым названием амфетамина для детей), которых называли «индиго» и с которыми родители не знали, что делать. Она назвала его Миланом, показывая в его имени связь с собой и их общей болезнью.
Милан был красив, как ангел, и непрактичен для жизни, как марсианин. В их стране, как впрочем, и по всему миру, стало рождаться всё больше и больше таких, как народ говорил, «голубых» детей, которых в старинные времена называли просто «блаженными». Но раньше их было мало, а теперь правительствам приходилось строить специальные школы для них, а когда эти «странные» дети превращались во взрослых, поддерживать их существование за счет других, работоспособных и конкурентноспособных, хитрых и удачливых членов общества.