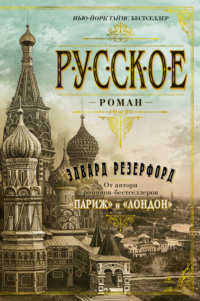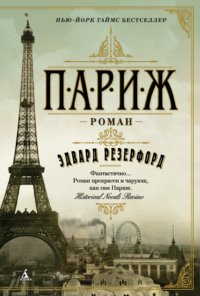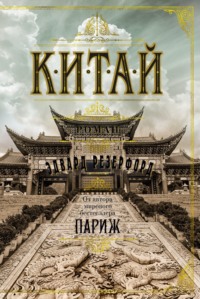Полная версия
Лондон
Проблемой же для обоих являлось то, что лежало на столе. Короткая, в девять дюймов длиной, палочка для подсчета долгов, испещренная зарубками неодинаковой ширины и глубины. Они показывали, что Леофрик на грани разорения.
Как его угораздило попасть в такую беду? Он, как и прочие крупные лондонские купцы, вел дела в двух направлениях. Через купца из нормандского города Кана он ввозил французские вина и товары, а английскую шерсть продавал на экспорт, отправляя ее в Нижние страны знаменитым портным Фландрии. Беда была в том, что в последнее время его деятельность чересчур разрослась. Мелкие колебания цен на вино и шерсть могли явиться критическими для его состояния. Затем груз шерсти сгинул в море. Барникель предоставил ссуду и помог уладить эту неприятность. «Но даже при этом, – признался Леофрик жене, – я остаюсь должен Бекету из Кана за последний корабль с вином, и придется ему подождать».
Его семейство издавна владело старым Боктонским имением в Кенте. Такие имения были у многих удачливых лондонских купцов. У Барникеля был крупный земельный надел в Эссексе. Леофрик же ныне держал свое дело на плаву лишь благодаря доходам от Боктона.
И в этом заключалась опасность.
«Если на Англию нападут, – рассуждал он, – и Гарольд проиграет, то победитель, верно, отберет многие поместья, в том числе и мое». Так или иначе, урожай мог пропасть. При финансах, висевших на волоске, это могло означать разорение.
Леофрик размышлял. Он глянул в угол, где сидели в потемках жена и сын. Вот было бы маленькому Эдварду не десять, а двадцать, чтобы удачно жениться и обеспечить себя! А еще бы не печься о приданом для дочери! И были бы поменьше его долги! Мальчонка уже здорово похож на отца. Как сохранить для него владения?
А теперь еще это письмо, странное и тревожное. Насколько осведомлен носатый нормандец в его делах? И почему он взялся помочь? Что же касалось его предложения…
Леофрик не привык к моральным дилеммам. Будучи саксом, он, как и его предки, различал лишь «плохо» и «хорошо», ничего сверх. Но это было нелегко. Он пристально посмотрел на Хильду и вздохнул. Ей уготована простая, даже безмятежная жизнь. Неужто он и впрямь пожертвует дочерью ради сыновних владений? Многие, конечно, так и поступили бы. В англосаксонском мире, как и везде в Европе, дочери становились разменной монетой во всех сословиях.
– Мне может понадобиться твоя помощь, – сказал он.
Какое-то время он говорил тихо, она же кротко внимала. Какого он ждал ответа? Хотел, чтобы она возразила? Он знал лишь, что выслушает ее с замиранием сердца.
– Отец, если ты нуждаешься в помощи, я сделаю все, что пожелаешь.
Леофрик уныло поблагодарил ее и жестом отослал.
Нет, решил он, этому не бывать. Должен найтись какой-то выход. Но почему же, поразился он, проклятый внутренний голос предостерег его, напомнив, что ничего не дано предугадать?
Именно в этот момент его мысли прервал сосед, позвавший снаружи:
– Леофрик! Иди сюда и взгляни!
Он задумчиво смотрел на шахматную доску, как будто фигуры могли стронуться сами собой. Длинный нос отбрасывал на нее тень в свете свечи.
На миг мысли унесли его к дневным событиям. Он рассчитал все действия, учел все случайности. Ему придется лишь немного подождать. Он мог позволить себе терпение, коль скоро прождал уже двадцать пять лет.
– Твой ход, – заметил он, и юноша напротив подался вперед.
Сыновья были похожи на отца. Оба угрюмые, оба отягощены фамильными носами. Однако Анри обладал отцовской смекалкой, которой не было у чуть более крупного и дородного Ральфа. Последний где-то шлялся. Наверное, пьянствовал. Анри сделал ход.
Никто не знал точно, когда шахматы добрались до Англии. Но король Кнут был уже с ними знаком. Родом с Востока, на Западе они претерпели известные метаморфозы. Восточный визирь превратился в королеву, а пара великолепных слонов с паланкинами – в фигуры, понятные европейцам, – в епископов, благо очертания паланкинов отдаленно напоминали митры.
Дом, где разворачивалась игра, был выстроен из камня, что редкость для саксонского Лондона, и находился рядом с собором Святого Павла на вершине крутого холма, спускавшегося к Темзе. Это был красивейший лондонский квартал, где жили священники и дворяне.
Четверть века прошло с тех пор, как он прибыл в Лондон из нормандского города Кана, где принадлежал к видной купеческой фамилии. В таком переезде не было ничего необычного. В устье ручья, сбегавшего между холмов-близнецов, расположились две закрытые пристани. На восточной стороне находился причал для германских купцов, на западной – для франкоязычных из нормандских городов Руана и Кана. Занимаясь в основном доходной виноторговлей, эти чужеземцы получили много привилегий, а некоторые обосновались в Лондоне навсегда.
Остался бы он здесь, не потеряй в Кане девушку? Наверное, нет. Он был убежден, что она принадлежала ему; любовь родилась еще в детстве. Но что он любил? Не курносый ли носик, столь разительно отличавшийся от его шнобеля? С течением лет то было единственное в ней, что помнилось наверняка. И все-таки в глубине души хранилось острое напоминание о былой боли. Оно и направляло его, подобно путеводной звезде.
Когда бы ни зародилась вражда этих купеческих семейств, она определенно существовала еще при его деде. Дело не только в промысле. Что-то особенное скрывалось в самой их натуре. Беда заключалась не в том, что они были расторопны и отличались живостью, смекалкой и обаянием, хотя и это достаточно скверно. Во всех них присутствовала напористая свирепость, глубоко сокрытое самомнение, которое раздражало многих и за которое их возненавидела его родня.
Девушка была его сокровищем. В пятнадцать лет он подслушал из-за угла их разговор с молодым Бекетом. Они потешались.
– Прелесть моя, но как же ты будешь с ним целоваться? Его носище – препятствие совершенно непреодолимое! Разве не видишь? Неприступная крепость! Конечно, он великолепен. Достоин восхищения, как горная вершина. Но знаешь ли ты, что со времен Потопа в этой семье никого не целовали?
Он отвернулся. Уже на следующий день она охладела к нему. Через год вышла замуж за юного Бекета. После этого родной дом стал ему ненавистен.
Годы правления Эдуарда Исповедника явились для него доброй порой. В Лондоне он женился и преуспел, завел важных друзей при космополитичном дворе Эдуарда и сделался ценным покровителем собора Святого Павла, видной фигурой.
Он также взял себе новое имя.
Это случилось в одно прекрасное утро, вскоре после женитьбы. Прохаживаясь по торговым рядам Уэст-Чипа, он задержался у длинного стола, за которым трудились серебряных дел мастера. Заинтересовавшись, он склонился через стол понаблюдать за ними и так какое-то время простоял. И уже уходил, когда до него донеслось: «Глянь-ка на богатея. Рукава сплошняком в серебре!»
Посеребренные рукава. Он задумался, прикинул так и сяк. Рукава в серебре. Поскольку прозвище не относилось к его носу и намекало на состоятельность, он решил сохранить его. Силверсливз – подходящее имя для богатого человека.
– Недалек час, когда я его заслужу, – пообещал он жене.
Сейчас, взирая на шахматную доску, Силверсливз позволил себе слабую улыбку. Шахматы нравились ему: властная игра, основанная на тайной гармонии. За годы торговли он приучился выискивать аналогичные партии в своих делах. И находил. Дела людские, порой незаметные, нередко жестокие, напоминали Силверсливзу хитроумную игру.
Он любил играть в шахматы с Анри. Хотя сыну недоставало отцовского стратегического мышления, он был блестящим тактиком и прекрасным импровизатором, когда приходилось принимать неожиданные решения. Силверсливз пробовал научить и младшего сына, но Ральф не мог усидеть и бесился, тогда как Анри взирал на него с легким презрением.
Но Силверсливз, если втайне и был разочарован в Ральфе, никогда этого не показывал. На самом деле он, подобно многим умным отцам, любовно заботился о сыне-тупице, всячески стараясь подружить братьев и уверяя их мать: «Они разделят мое наследство поровну».
Тем не менее перенять его дело предстояло именно Анри. Юноша уже отлично разбирался в тонкостях изготовления, перевозки и хранения вина. Он знал и заказчиков. В минуты же покоя, вроде нынешней, Силверсливз делился с ним и более глубокими соображениями, дабы тот лучше понимал, что к чему. Этим вечером, держа в уме многочисленные расчеты последних дней, он решил коснуться самого важного.
– У меня есть любопытная задача, – начал он. – Имеется должник. – Он многозначительно посмотрел на сына. – Кто чаще оказывается сильнее, Анри, человек с мошной или человек с долгами?
– С мошной.
– Допустим, он должен тебе и не может заплатить. Что тогда?
– Разорится, – хладнокровно ответил Анри.
– Но тогда ты лишишься того, что одолжил.
– Если не заберу в уплату все, что у него есть. Но если оно ничего не стоит, то плохи мои дела.
– Значит, коль скоро он должен тебе, ты его боишься? – Анри кивнул, и Силверсливз продолжил: – Однако подумай: как быть, если в действительности он в состоянии вернуть долг, но предпочитает не возвращать? Ты боишься его, потому что у него твои деньги, но он, поскольку может расплатиться, не боится тебя.
– Согласен.
– Отлично. Теперь предположим, Анри, что тебе отчаянно нужны эти деньги. Он предлагает меньше, чем задолжал. Возьмешь?
– Может быть, и придется.
– Да, это так. Теперь смотри: разве он не заработал на тебе? По той причине, что оказался сильнее, будучи должен?
– Зависит от того, хочет ли он и впредь вести со мной дела, – произнес Анри.
Силверсливз помотал головой:
– Нет. Это зависит от многих вещей. От времени, от вашей нужды друг в друге, от иных возможностей, от важных связей – у кого их больше. Это вопрос скрытой расстановки сил. Совсем как в шахматах. – Он выдержал паузу, подчеркивая сказанное. – Анри, никогда не забывай об этом. Люди торгуют ради прибыли. Ими движет алчность. Но долг сопряжен со страхом, а страх сильнее алчности. Долг – истинная власть, оружие, превосходящее всякое прочее. Глупцы охотятся за золотом. Мудрый изучает долги. Это ключ ко всему. – Он улыбнулся и вновь простер руку. – Шах и мат.
Но ум Силверсливза был занят игрой куда большей – игрой, где долг окажется оружием, в которую он тайно играл последние двадцать пять лет против Бекета, купца из Кана. И в этом поединке он изготовился нанести сокрушительный удар. Его намерениям должен был послужить человек весьма подходящий – Леофрик Сакс. Осталось лишь немного выждать. Еще был датчанин. Огромный рыжебородый хам, сегодня оскорбивший его. Барникель пребывал на периферии игры ничтожной пешкой, но можно было подключить и его. План отличался столь безупречной сокровенной симметрией, что позволял изящнейшим образом разобраться и с Барникелем.
Он все еще улыбался, когда Анри подошел к окну и взволнованно позвал:
– Посмотри, отец! Там что-то в небе!
За последний час облака разошлись, явив холодное и суровое зимнее небо, полное звезд. А посреди него нарисовалась в высшей степени необычная картина.
Нечто спокойно висело, распушив длинный хвост. По всей Европе, от Ирландии до Руси, от Шотландских островов до каменистых побережий Греции, люди в ужасе, не понимая, что сие значит, взирали на огромную бородатую звезду.
Явление кометы Галлея в начале 1066 года подробно описано в хрониках того времени. Все были едины в том, что это зловещее знамение, предвещавшее некую катастрофу, готовую поразить человечество. Особые причины бояться существовали в островной Англии, которой угрожали со всех сторон.
Мальчик с белой прядкой в светло-каштановых волосах завороженно смотрел на великую комету. Его звали Альфред, в честь славного короля. Ему было четырнадцать, и он только что принял решение, которое взбесило отца, а мать наполнило скорбью. Он ощутил ее тычок.
– Альфред, тебе не следует идти. В звезде знамение. Ты должен остаться.
Он усмехнулся, сверкнув голубыми глазами:
– Матушка, неужто ты думаешь, что Всемогущий Господь послал эту звезду, дабы предостеречь меня? По-твоему, Он возжелал, чтобы весь мир взглянул и сказал: «Ба, да это же Бог предупреждает юного Альфреда не ходить в Лондон»?
– Как знать…
Он поцеловал ее. Мать – простая, сердечная женщина, и он любил ее. Однако все уже решил.
– Вы с отцом прекрасно управитесь. У него уже есть сын, чтобы пособить в кузнице. Мне здесь нечего делать.
Яркий свет кометы Галлея выхватывал красивый пейзаж. Темза, несшая свои воды через низину, что раскинулась на двадцать миль к западу от Лондона, текла средь сочных лугов и плодородных полей. В одной-двух милях вверх по течению находилась деревня Виндзор, королевское поместье; неподалеку над потоком нависал, подобно сторожевой башне, холм – единственный силуэт в равнинном ландшафте. Семья проживала в этом пленительном окружении еще со времен славного короля Альфреда, когда покинула леса к северу от Лондона, спасаясь от грабителей-викингов. Они ни разу не пожалели об этом решении, ибо земля была богата и жилось им отменно.
Жизнь их скрашивало и другое. Отец неизменно напоминал мальчику: «За правосудием, Альфред, мы всегда можем отправиться к самому королю. Никогда не забывай, что мы вольные люди».
Это было исключительно важно. Англосаксонская деревня уже обустроилась вполне на манер прочей Северо-Восточной Европы. Территорию разбили на шайры – графства – с шерифом в каждом; тот собирал королевские налоги и осуществлял правосудие. Все шайры делились на округа, в каждом – множество земельных владений. Последние принадлежали танам и лендлордам помельче, которые, подобно владельцам материковых поместий, чинили собственный суд над своими крестьянами.
Но в отношении крестьянства англосаксонская Англия держалась особняком. Если европейские землепашцы были, как правило, либо вольными, либо сервами, то в Англии все оказалось куда сложнее. Сословий развелось видимо-невидимо. Одни крестьяне были рабами, обычными невольниками. Другие являлись крепостными – сервами, привязанными к земле и подчиненными владельцу. Третьи – вольными, платили лишь за аренду. Четвертые – наполовину свободными, но аренду оплачивали; пятые – свободными, но служили особую службу; имелось и много промежуточных разрядов. И положение, конечно, не давалось раз навсегда. Раб мог стать вольным; свободный человек, слишком бедный, чтобы платить налоги и за аренду, ввергался в рабство. Картина, как явствует из судебных отчетов, зачастую бывала ужасающе пестрой.
Впрочем, семья молодого Альфреда отлично понимала свой статус. Сей род всегда был свободен, если не брать в расчет недолгого и давно забытого периода, когда пращур Оффа пребывал в рабстве у купца Сердика. Правда, они были лишь скромными крестьянами-батраками, располагая наделом крохотным, как фартинг. Но отец Альфреда мог честно сказать: «Мы платим денежную ренту в серебряных пенни. Мы не трудимся на господина, как делают рабы».
А потому юный Альфред, как всякий вольный местный, гордо носил на поясе символ своего драгоценного статуса: изящный новенький кинжал.
Семья жила кузнечным ремеслом со времен деда. К семи годам Альфред умел подковать коня. К двенадцати махал кувалдой едва ли хуже брата, который был на два года старше. «Вам незачем быть большими и сильными, – внушал сыновьям отец. – Мастерство – вот что важно. Пусть за вас работают инструменты». И Альфред учился хорошо. Ему не мешали родовые перепонки между пальцев.
– Двум кузнецам в этой деревне делать нечего, – отметил он. – Я обошел все окрест – Виндзор, Итон, даже Хэмптон. Пусто. Поэтому, – изрек он горделиво, – я отправляюсь в Лондон.
Но что он знал о Лондоне? Немного, откровенно говоря. И уж конечно, ни разу в нем не бывал. Однако сызмальства усвоил семейное предание о золоте, зарытом в Лондоне, и город приобрел для него магическое значение.
– Там и вправду закопано золото? – донимал он родителей.
А потому неудивительно, что отец укоризненно бросил ему:
– Небось за кладом собрался!
Может быть, раздраженно подумал Альфред. А стоило матери робко осведомиться, когда же в путь, он неожиданно выпалил: «Завтра утром».
Наверное, диковинная звезда с ним все же поговорила.
К Пасхе 1066 года Английское королевство переполошилось. Саксонский флот спешно готовился патрулировать море. Король занялся этим лично.
Донесения поступали ежедневно. Бастард Вильгельм, герцог Нормандский, готовился к вторжению. К нему примыкали рыцари со всей Нормандии и прилегавших территорий.
– И хуже всего то, – уведомил Леофрик Барникеля, – что он, как сказывают, получил папское благословение.
Угроза исходила и от других авантюристов – норманнов. Вопрос заключался лишь в том, когда и как будет нанесен первый удар.
Ранним утром в это тревожное время, когда улицы подморозило, Барникель Датчанин возвращался от Леофрика к себе на восточный холм.
Он только что миновал ручей, сбегавший между холмами-близнецами, который теперь, поскольку проходил сквозь северную городскую стену, назывался Уолбрук, и был остановлен скорбной картиной.
Тропа шла вдоль нижней римской магистрали. Справа, на восточном берегу Уолбрука, когда-то стоял дворец римского губернатора, хотя память об изящных постройках давно истерлась – их скрыла пристань германских купцов. На улицах, где некогда расхаживали стражи, теперь разместились лотки и свечные лавки. Ее называли Кэндлвик-стрит. От имперского величия не осталось и следа, за исключением одного любопытного предмета.
Каким-то образом уцелел мильный столб; он высился близ того, что сохранилось от дворцовых ворот, напоминая упрямый пень древнего дуба, пустившего здесь корни лет девятьсот назад, а то и больше. Поскольку горожане смутно догадывались, что сей привычный, но загадочный предмет явился из седой старины, они уважительно именовали его Лондонским камнем.
Именно возле него Барникель заметил жалкую фигурку.
Альфред не ел уже три дня. Он съежился у камня, плотно завернувшись в грязный шерстяной плащ. Лицом он был очень бледен. Ноги онемели от холода. Позднее, если ему повезет согреться возле жаровни, они разболятся.
В свой первый месяц пребывания в Лондоне Альфред представлял собой обычного паренька, ищущего работу. Правда, он ничего не нашел, поскольку не имел друзей-покровителей. Во второй месяц он попрошайничал, выклянчивал еду. К третьему превратился в бродягу. Лондонцы не отличались особой жестокостью, но бродяги угрожали обществу. Вскоре он понял, что на него донесут. Ему было известно лишь, что его отволокут в Гастингс-корт. А потом? Он не знал. Поэтому, заслышав тяжелую поступь, еще отчаяннее вжался в холодный камень. Альфред поднял глаза, только когда к нему обратились: над ним навис великан, какого он в жизни не видел.
– Как тебя звать? – (Альфред сказал.) – Откуда ты?
– Из Виндзора.
– Какого сословия?
И снова Альфред ответил. Вольный ли он? Да. Когда в последний раз ел? Не воровал ли еще? Нет. Только ячменную лепешку, подобранную с земли. Допрос продолжался, пока наконец рыжебородый исполин не хрюкнул, значения чего Альфред не уразумел.
– Вставай.
Он подчинился. И сразу упал. Тряхнул головой и попробовал еще, однако ноги вновь подкосились. В ту же секунду он скорее удивленно, чем в страхе, ощутил, как ручищи Датчанина подхватывают его и забрасывают на плечо, словно небольшой куль муки, – и вот великан зашагал к Ист-Чипу, гудя что-то под нос.
Вскоре Альфред очутился в большой усадьбе с крутой деревянной крышей на дальней стороне восточного холма. Да что в усадьбе – перед огромной жаровней, над которой тихая седая женщина с широким лицом разогревала котел с похлебкой, и запах показался Альфреду божественным, лучше всего, что он когда-либо вкушал.
Покуда она занималась похлебкой, мальчик осмотрелся. Все выглядело колоссальным – от здоровенного дубового стула до прочных дубовых дверей, а на стене красовался внушительный, двуручный боевой топор. Датчанин маячил под другую сторону жаровни, и Альфред не мог рассмотреть его толком. Тотчас последовало:
– Мы накормим тебя, мой юный друг, но после ты отправишься домой, откуда пришел. Понятно?
Альфреду вообще не хотелось говорить, но Датчанин повторил вопрос, и поскольку лгать явно не следовало, он нашел в себе силы помотать головой.
– Что? Никак ты мне перечишь?
Это был сущий рев. Парень вдруг испугался, что великан передумает и не станет его кормить. Тем не менее ему хватило мужества ответить:
– Нет, сударь, я не перечу, но домой не пойду.
– Ты с голоду околеешь! Тебе это известно?
– Как-нибудь перебьюсь. – Он понимал, что это нелепость, но тем не менее. – Я не привык сдаваться.
Это было встречено таким ором, что Альфред решил: сейчас этот викинг ударит его, но ничего не случилось.
Тем временем женщина перелила похлебку в небольшой котелок и поманила Альфреда к столу. Альфред повиновался, однако заметил, что великан направился к нему.
– Ну, – обратился тот утробным гласом к жене, – что ты о нем думаешь?
– Бедняга, – отозвалась та сострадательно.
– Верно. И все же… – (Альфред различил смешок.) – В этом мальчонке бьется сердце героя. Слышишь? Могучего воина. – Загоготав, он хлопнул того по спине и чуть не опрокинул в котел с похлебкой. – А знаешь почему? Он не сдается. Так и сказал мне. Он не шутит. Этот малыш не сдастся!
Жена вздохнула:
– Значит, мне его содержать?
– Ну разумеется! – воскликнул тот. – Ибо скажу тебе, юный Альфред, – обратился он к мальчику, – что у меня есть для тебя работа.
Саксонский флот курсировал по Английскому каналу все лето. Набег был всего один, ему подвергся кентский порт Сэндвич, и его быстро отбили. Затем – тишина. За горизонтом выжидал Вильгельм Нормандский.
Однако для юного Альфреда, невзирая на эту опасность, прошедшие месяцы стали счастливейшей в жизни порой.
Мальчик быстро перезнакомился с семейством Датчанина. Жена Барникеля была строга, но добра; старшие дети уже обзавелись своими семьями, а восемнадцатилетний сын, который собирался жениться на дочери Леофрика, все еще жил с родителями. Он был здоровяк, вылитый отец, и научил юного Альфреда вязать морские узлы.
Датчанина же будто веселило общество деревенского мальчишки. Его дом на восточном холме располагался неподалеку от саксонской церкви Всех Святых и выходил на пустынные травянистые склоны, где обитали во́роны. Каждое утро мужчина отправлялся по тропинке в Биллингсгейт инспектировать суденышки с грузами шерсти, зерна и рыбы. Альфреду нравилась пристань, пропитанная запахами рыбы, дегтя и водорослей, но еще больше – визиты к Леофрику на западный холм. Теперь, когда он перестал быть бродягой, ему доставляло огромное удовольствие ходить от собора Святого Павла по Уэст-Чипу. Там каждый закоулок был связан с отдельным промыслом или товаром – Бред-стрит, Вуд-стрит, Милк-стрит и так до Полтри в самом конце. Торговцы галдели, выкрикивая все эти товары; там обитали и продавцы специй, сапожники, ювелиры, меховщики, торговцы одеялами, гребнями и многие, многие другие. Одно его удивляло – количество свинарников. Такого он от города не ожидал, но Барникель объяснил: «Свиньи пожирают мусор и держат место в чистоте».
Благодаря Барникелю Альфред стал лучше понимать характер Лондона. Отчасти город оставался сельским. Саксонское поселение не заполнило огромного пространства, обнесенного стенами; здесь сохранились поля и фруктовые сады. Вокруг раскинулись обширные земли, принадлежавшие королю, его придворным и Церкви.
– Город разделен на округа, – растолковывал Барникель. – Примерно по десять на холм. Но некоторые из них находятся в частном владении. Мы называем их сока.[14]
Он назвал нескольких дворян и духовных лиц, содержавших эти имения в границах Лондона.
И все-таки Лондон был сам по себе. Слушая Датчанина и наблюдая, Альфред не уставал поражаться.
– Город настолько богат, – объяснил Барникель, – что облагается налогом, как целый шайр.
Он с гордостью перечислил свободы, отвоеванные городом: торговые концессии, права на рыбный промысел в пределах нескольких миль по Темзе, права на охоту во всем графстве Мидлсекс, располагавшемся на северной стороне, и многие другие.
Но дело было не в этом, а в чем-то еще – в разлитом в воздухе, но вполне осязаемом и производившем на мальчика по-настоящему глубокое впечатление. Ему какое-то время не удавалось облечь его в слова, но однажды ему нечаянной репликой помог сам Датчанин.
– Стены Лондона касаются моря, – произнес тот.
Да, подумал мальчик. Вот оно.
Покоясь издавна в верховье эстуария Темзы, неизменно смотревшего в море, огромное поселение среди стен на протяжении поколений служило приютом мореплавателям и торговцам всего северного мира. И эти люди не собирались себя ограничивать, пусть даже признавали власть островных королей – саксонских и датских. Защищаясь и организуя торговлю, они основывали собственные гильдии. Они знали о своей важности для короля, и с этим считались. Дед Барникеля, крупный купец, трижды ходивший в Средиземноморье, стал дворянином. Три поколения этого семейства возглавляли гильдию защиты, способную выставить значительные силы. Городские стены были столь крепки, что заслужили признание короля Кнута. «Лондон не взять никому, – похвалялись англо-датские бароны, выходцы из купечества. – И никакой король не король, пока мы не одобрим».