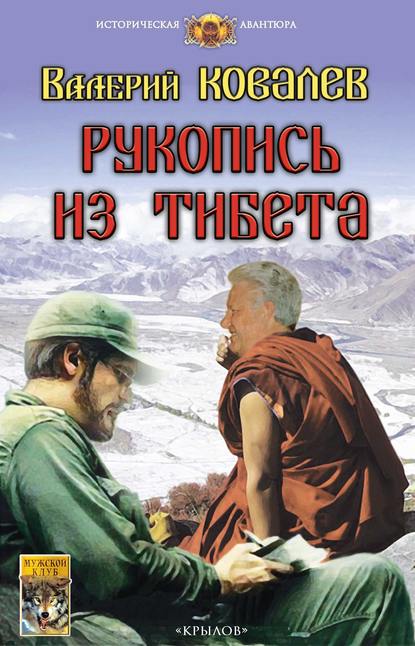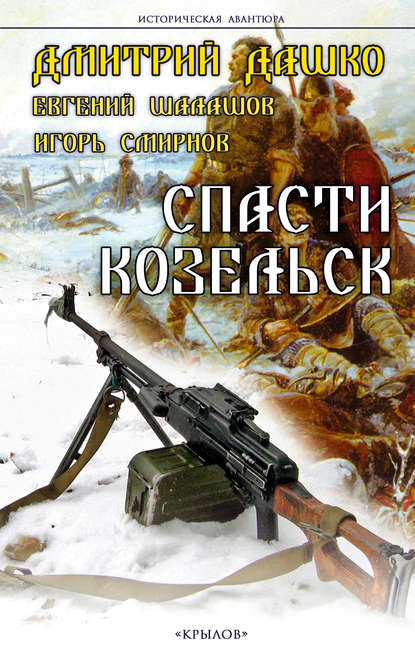Полная версия
Нам здесь жить
– И как у тебя здорово получается, – невольно вырвалось у него однажды. Улан, смутившись, пояснил:
– На самом деле все очень просто: поначалу требуется не торопясь и не спеша выслушать человека, дать ему возможность поделиться с тобой наболевшими проблемами, а их у каждого навалом. Нужно-то ему всего ничего – капельку участия и крошку сочувствия, но за это внимание он проникнется к тебе самой горячей симпатией и в лепешку расшибется, но припомнит то, что может помочь в расследовании.
…Они вычислили маньяка. По всему раскладу получалось, что это некто гражданин Загоруйко, но расклад – одно, а на деле предъявить подозреваемому было нечего, поскольку дело обстояло из рук вон даже с косвенными уликами, не говоря о прямых. С таким количеством не факт, что руководство даст добро установить за Загоруйко хотя бы наблюдение. Впрочем, может, и даст, но произойдет это не раньше, чем обнаружится седьмой труп (шестой нашли двумя днями ранее). Кроме того, Сангре чертовски хотелось довести начатое до конца, а процесс ожидания мог затянуться не на один месяц.
И тогда он решился, твердо заявив Улану:
– Будем колоть гада на чистосердечное, – и, насупившись, добавил: – А твое ха-ха также уместно, как шашлык из свинины субботним вечером на столе у тети Сары.
– Я не смеялся.
– Но собирался – я же не слепой. И зря. Против моего вдохновения ему ни за что не устоять. Но для начала нам нужно поговорить за серьезный момент и прикинуть, в чем мы уверены наверняка касаемо этого шлимазла.
– А толку? Суду нужны доказательства, а не наши домыслы.
– Суду – да, а этому козлу хватит и наших домыслов. Главное, преподнести их так, чтобы он поверил, будто они – доказательства, а его чистосердечное признание нужно лишь для проформы, и коль он не хочет колоться, ему же хуже.
– Ты ведь даже допрашивать не имеешь права, – напомнил Улан.
– Тю, – усмехнулся Сангре. – Но за это знаю я, а не он. Зато я могу принять от него собственноручно написанное покаяние.
– Только вначале надо довести человека до того, чтобы он написал. Уверен, что сможешь?
– Ты фильм «Блеф» видел? – вместо ответа спросил Петр. – Ну-у, старенький такой, с Челентано в главной роли. Наивный, конечно, но суть передана верно: ежели сам жулик искренне верит в свой обман, остальные тоже в него поверят. Я Загоруйко не просто доведу до нужной кондиции. Он у меня еще на коленях ползать будет, чтоб я его явку с повинной принять согласился.
– Ну а если он на суде от всего откажется, сославшись на то, что ты его запугал?
– Ой, ну я тебя умоляю – сделай тихо, – перебил поморщившийся Сангре. – Для того нам и надо его чистосердечное признание, чтобы помимо всего прочего узнать, куда он спрятал не найденные трупы пропавших в последние полгода девушек. Уверен, что минимум половина – его жертвы. А если он укажет хоть на одну захоронку, все, выкручиваться бесполезно. И даже наш гуманненький суд признает его виновным.
И столь мощно веяло от напарника уверенностью в сказанном, да что там веяло – разило – что Улан тоже заразился от него убежденностью в успехе и коротко спросил:
– Что с меня?
– Во-первых, ты должен через сослуживцев, соседей и родню выявить его слабые стороны. Срок – вчера. Во-вторых, по ходу моего допроса будешь дежурить в коридоре на подстраховке – чтоб никто не мог войти и помешать, а кроме того есть и в-третьих. Слушай сюда…
Улан расстарался, превзойдя самого себя и раздобыл о Загоруйко кучу информации. Но и Петр выполнил обещание – допрашиваемый спустя пару часов и впрямь в буквальном смысле слова брякнулся перед ним на колени. С ужасом косясь на ржавые клещи, моток проволоки и толстое, плохо оструганное полено в бурых пятнах засохшей крови, он принялся умолять принять явку с повинной, а взамен поместить его непременно в одиночную камеру.
Остальное было делом техники, народу в обезьяннике хватало, нашлось кому копать, так что ближе к ночи не один, а три полуразложившихся трупа пропавших девушек находились в морге, а маньяк сидел в камере СИЗО…
…Об остальных преступлениях, в раскрытии коих они успели принять участие за остаток стажировки, рассказывать не имеет смысла. Да и не в них суть. Главное, каждый четко осознал, в чем силен он, а в чем его товарищ, и при этом оба понимали, что их сила удесятеряется лишь будучи объединенной в единый кулак.
К тому же выяснилось, что и в часы досуга им есть о чем поговорить, да и с дележом девушек не возникало никаких проблем – уж слишком сильно отличался у них вкус в вопросах внешности и фигуры.
«С ума сойти! И как мне выдержать ежедневное лицезрение этой монгольской рожи китайского разлива», – тоскливо размышлял Сангре, трясясь в вагоне по пути на стажировку.
«Вот чёрт! И чего я на него наезжал?! Парень-то золото!» – недоумевал он, возвращаясь обратно, и прямо в поезде, извинившись перед Уланом за свои подколки, пообещал никогда не проходиться по его имени, тем паче по его национальности или вероисповеданию.
Каково же было его удивление, когда Буланов со своей неизменной добродушной улыбкой незамедлительно освободил его от этого обещания, заметив, что ему было даже забавно слушать и вообще он очень благодарен Петру.
– За что?! – изумился тот.
– Кличку приличную получил, – пояснил Улан. – С твоей легкой руки меня Буддистом прозвали. Не то что раньше, до Академии.
– А раньше как?
Буланов помедлил. Все это время он ждал, когда парень, сидящий напротив него, наконец-то образумится. Ждать пришлось долго, но Улан был терпелив – к этому его приучили с раннего детства. Мачеха, появившаяся, когда ему исполнилось четыре года, спуску пасынку не давала, взвалив на него добрую половину всех домашних дел. Отец понимал, что творится, но, разрываясь между женой и сыном, ничего поделать не мог и грустно уговаривал Улана потерпеть. Ну а в качестве наглядного примера частенько рассказывал о Будде, в том числе и о его пути к совершенству, основанному как раз на терпении. Понимая, что и отцу приходится несладко, мальчик кивал, соглашался и… терпел.
Отец вот уж несколько лет как ушел из жизни, но в памяти оставались его слова и многочисленные рассказы-притчи. Припомнив, что лучше всего зарождающаяся дружба скрепляется доверием, Улан решился и, засучив правый рукав рубашки, оголил руку, продемонстрировав большое родимое пятно возле локтя:
– Только быстро – какие у тебя ассоциации?
– Паука напоминает, – недоуменно ответил Сангре.
– Точно, – согласился Улан. – И остальным тоже. Потому так в детстве и прозвали. А я их терпеть не могу, – и застенчиво попросил: – Но ты никому.
– Сказано в писании, – ухмыльнулся Петр, – не открывай всякому человеку твоего сердца, чтобы он дурно не отблагодарил тебя. Но я не всякий, а посему будь уверен – могила.
– Кстати, давно хотел тебя спросить, – поинтересовался Улан. – Я не раз слышал от тебя цитаты из Библии, да и крестик ты никогда с себя не снимаешь, причем какой-то… – он прищурился, вглядываясь, – необычный, а сам ты вроде не больно-то верующий.
– Это точно, – согласился Петр. – Я как и отец с дедом, считаю, что чем ближе к церкви, тем дальше от бога. А касаемо креста и моих познаний в Библии, – он помялся и решительно махнул рукой. – Ладно, откровенность за откровенность, тайна за тайну. Крестик – последняя память о маме Гале. Он и правда выглядит необычно – и буквы латинские и ноги у Христа одним гвоздем прибиты, а не двумя. Это все потому что он не православный, а униатский. Она ж у меня западэнка, вот и окрестила по-своему у себя на галичине. А знание Библии… Когда маму отморозки на улице зашибли, сумочку отнимая с зарплатой, она через месяц попросила забрать ее из больницы. Мол, все равно помирать, так лучше дома. А я в оставшиеся три месяца у нее сиделкой стал, благо, на дворе каникулы были. Такое вот получилось у меня… последнее лето детства, – он горько усмехнулся. – И все это время я по ее просьбе разные куски из Библии зачитывал. Готовилась она… к иной жизни. А когда с десяток раз одно и то же прочитаешь, поневоле в мозгу что-то отложится, хотя я и… – он осекся, махнул рукой и отвернулся.
Чуть поколебавшись, Улан мягко положил ему руку на плечо и попросил:
– Ты прости, что напомнил. Я ж не знал, – и, горько усмехнувшись, добавил: – А я свою маму вообще не помню – при родах умерла. Да и отца три года назад тоже потерял.
– Ничего себе, – присвистнул Петр, удивляясь, как схожи их судьбы. – Слушай, и у меня тоже отца убили и тоже примерно три года назад, – он замялся и неловко осведомился: – А ты правда на меня не сердишься… ну, за узбека, монгола…
– А также за синего драгуна и зеленого кирасира, – с улыбкой подхватил Буланов. – Конечно, нет. И насчет твоих пробежек по моему буддизму тоже. У тебя все так забавно получается, так что бегай и дальше сколько хочешь.
– Ладно, уговорил, – весело махнул рукой Сангре. – оставлю тебя в прежнем высоком звании сарацина и нехристя. Но с условием.
Улан вопросительно уставился на Петра.
– А условие такое, – торжественно произнес тот. – Все должно быть обоюдно. А то, получается, я на тебя всяко разно, а ты в ответ молчок. Так не годится. А посему, милый желтый жандарм, я тебя умоляю в отношении меня забыть за свою природную вежливость.
– Ты ж знаешь, я практически не матерюсь, – смутился Улан. – Да и вообще предпочитаю ни с кем не ругаться.
– Я и не говорю ругаться, – пояснил Сангре. – Огрызнись, пускай полушутливо. А то у нас получается игра в одни ворота.
– Чёрт с тобой, паршивый одессит, – усмехнулся Улан, – ты и мертвого уболтаешь.
– О! – возликовал Петр. – Ведь можешь, когда захочешь. Це дило! Ну, теперь держись, басурманская морда!
– И ты держись, униат поганый, – усмехнулся Улан.
А через каких-то пару месяцев их в Академии звали не иначе, как друзья – не разлей вода…
Глава 4. Колхоз «Лесная глухомань»
…И вот теперь Сангре сам вдруг ни с того, ни с сего напоминает, чтобы Улан его одергивал. Есть чему подивиться.
– С чего это ты вдруг? Решил новую жизнь начать?
– С того, что…, – замялся Петр, но договорить не успел – в этот миг дверь вновь отворилась и вошла девушка.
Выглядела она довольно-таки миловидно, но обряжена была в какую-то непонятную мешковатую одежду, выглядевшую еще более чудно, чем та, что на здоровяке или на Сангре. Да и чистотой её наряд не блистал – на сарафане какие-то пятна, а лапти вообще в грязи. Мало того, грязь, как ощутил Улан, явно припахивала чем-то неприятным и как бы не навозом.
– А вот и сестра милосердия, – облегченно заулыбавшись, представил ее Сангре. – Прошу любить и жаловать: Заряница свет Щавелевна.
– Кто?! – удивился Улан.
– Щавелевна, – невозмутимо повторил Петр и… заторопился уходить, пояснив, что лучше им потолковать обо всем как следует попозже, после очередного медицинского обследования. И он, заговорщически приложив палец к губам, торопливо удалился.
Обследование заключалось в стандартной процедуре смены повязок, но говор у сестры милосердия оказался каким-то неправильным.
– Шибко болит али как? Тута не дергает, не можжит? А здеся? А ежели надавлю, чуется?
Порою же она и вовсе употребляла столь архаичные выражения, что Улан понимал их с трудом.
Кстати, бинтов у девушки не было. Так, тряпочки. Правда чистые, пусть и не белые. Таблетки у нее тоже отсутствовали. Во всяком случае, Улана ими попотчевать она не сподобилась. Да и к элементарным требованием гигиены, судя по посуде для отваров – глиняным закопченным горшкам – она относилась спустя рукава.
Сами настои, коими она принялась потчевать раненого, оказались не очень-то приятными на вкус – горьковатыми, неприятно пахнущими, но Улан не перечил и послушно их выпил. Зато еда, которой его накормили, оказалась весьма и весьма. Томимый лютым голодом, он с огромным аппетитом слопал и пару ломтей душистого теплого хлеба, не иначе как свежего завоза, выхлебал чашку наваристого бульона и просительно уставился на девушку.
– Будя, – проворчала она. – По первости много нельзя – брюхо вспучит.
Настаивать на добавке больной не стал – медицине виднее. Поблагодарил и все. Но его глаза смотрели на нее столь выразительно, что она сама сжалилась, отломила кусок от краюхи хлеба и сунула ему.
– На-ка, пощипывай помалу, ежели невтерпеж станет, – и, стоя подле двери, неожиданно осведомилась. – А ты и вправду не татарин?
Улан опешил. То Петр, теперь деваха. С чего это у них всех такой бзик? Но ответил вежливо:
– Я – калмык.
Лицо девушки как-то просветлело, она улыбнулась и почти весело заявила:
– Ладноть, вечером, так и быть, поболе ушицы налью.
«А если б я татарином был, не налила?» – не понял Улан, но уточнять не стал. Подумать о прочих странностях у него тоже не вышло – быстро сморило, и проснулся он только заслышав скрип открывшейся двери. Улан открыл глаза и увидел на пороге Петра.
Только теперь Улан обратил внимание на то, что выглядела не совсем обычно не только одежда его друга, но и он сам. Во всяком случае Улан никогда еще не видел Петра столь серьезным, озабоченным и… слегка смущенным. Даже обычной ироничной усмешки на губах не наблюдалось. С чего бы?
Имелись настораживающие нюансы и в их разговоре. Нет, поначалу все было в порядке – Сангре вновь засыпал Улана вопросами о самочувствии, но едва их запас кончился, как он замялся и, после паузы, явно не зная, что сказать, поинтересовался:
– Как тебе мой прикид? – и он, гордо подбоченившись, одернул на себе потрепанную безрукавку.
– Круто, – оценил Улан. – Судя по всему, раритет.
– Точно, – весело заулыбался Петр. – Лапсердак «а-ля Глеб Жеглов». Отстоял длиннющую очередь на распродаже вещдоков на Петровке, но не жалею. На спине след от топора самого Горбатого. А если относительно серьезно, то я тут по совместительству в один клуб любителей кузнечного дела устроился. «Куй с нами» называется. Вот и урвал по блату. Штаны тоже достались круче некуда, одни в Одессе. Последний писк моды: галифе наизнанку. Размерчик, правда, слегка подгулял, но зато можно не переодеваясь подрабатывать пугалом на огороде.
Улан кивнул и поинтересовался:
– А мы вообще где находимся?
Сангре мгновенно стушевался, явно придя в затруднение от, казалось бы, вполне безобидного вопроса, почесал в затылке, и, неопределенно покрутив пальцами в воздухе, выдавил неуверенно:
– Ну, скажем, в деревне Липневке, в колхозе «Лесная глухомань».
Загадочный ответ друга удивил. Ладно, название. С ним понятно – капитан Блад в очередной раз изгаляется. Но Улан за несколько месяцев проживания в этих краях вообще ничего не слыхал ни о каком колхозе. Или Петр имел в виду что-то другое? Об этом он и спросил, заодно уточнив, как они сюда попали.
– Да обычным макаром, – отмахнулся Петр. – Девица, что отсюда сейчас вышла, неподалеку от нас охотничьи ловушки проверяла, вот и… Вначале испугалась, убежала куда-то. Я уж подумал все, труба нам с тобой. А она, оказывается, в деревню за помощью ломанулась – брата приволокла и прочих мужиков. Поначалу, правда, они нас за московских раз… – он осекся и махнул рукой. – Словом, неважно. Позже разобрались и к себе в деревню доставили. Но тут вот какая петрушка получилась… – протянул он, но продолжать не стал и вновь умолк, сосредоточенно разминая в руке хлебную крошку, прихваченную со стола.
– А почему меня в райцентр не отправили? – воспользовавшись паузой, поинтересовался Улан. – Я, конечно, не привереда, но медицина здесь поставлена как-то… допотопно, не находишь?
– Болит? Где? – встревожился Петр.
Улан неопределенно поморщился. Раны действительно болели, но терпимо. Да и боль была эдакая тупая, щадящая. Словом, все в порядке, но… Он вспомнил подозрительного вида повязки, сомнительные настои, хранящиеся в закопченных горшках, и… повторил вопрос насчет райцентра, заодно осведомившись, знает ли о том, что с ними произошло, его дядька.
– Да погоди ты с дядькой, – поморщился Сангре. – Лучше скажи, тебя здесь ничего не смущает? Ну, мебель, сама изба, земляной пол, одежда местного народца, мои лохмотья, в конце концов?
Улан молча кивнул. К сказанному другом он мог бы добавить кучу вещей, отнесенных им самим к странностям, но не посчитал нужным, поэтому отделался одним словом:
– Многое, – и поторопил Петра. – Давай, не тяни. Чувствую же, что какая-то гадость у тебя на языке.
– Гадость, – скупо подтвердил Сангре. – И немалая. Вообще-то мне бы попозже тебе ее выложить, когда ты совсем оклемаешься, но ты ж народу вопросы неправильные начнёшь задавать, и хуже того, сам отвечать неправильно станешь, – и самокритично добавил: – Как я поначалу. Потому и придется просвещать тебя прямо сейчас. Если кратко, то расклад у нас получается хреновый. Судя по всему, мы нарвались своими задницами на клизмы радикальных неприятностей!
– И в какое дерьмо мы с тобой угодили на сей раз? – спросил Улан.
– Увы, старина, – непривычно грустно откликнулся его друг. – За сравнение с тем, что с нами приключилось, дерьмо – это повидло, и влетели мы по самое не балуй. Но вначале, в качестве прелюдии: все, что я тебе сообщу, никакой не розыгрыш, как бы тебе ни хотелось считать иначе. И крыша у меня не поехала. Да и ты и сам небось чуешь, что я серьезен, как никогда. А теперь молчи и слушай. – он помедлил и, набрав в грудь побольше воздуха, словно собрался нырять, выпалил: – Думаешь, я почему тебя ни разу татарином не назвал?…
Уже после третьей фразы Петра Улан, невзирая на слабость, чуть не засмеялся. Да и как иначе? Ну какой здравомыслящий человек поверит, что он попал в прошлое. Причем не на год-два, от этого бы и Улан не отказался – глядишь, подправили бы кое-что в своей жизни – а почти на семьсот лет назад. Некоторое время он сочувственно смотрел на друга, но, наконец, не выдержав, перебил его:
– Ты в своем уме?
– Я и сам поначалу подумал, что того или разыграть меня кто-то пытается, – честно признался Сангре. – Но глазам-то своим еще не разучился верить. Смотри, что получается, – и он стал загибать пальцы, приводя неотразимые доводы.
Получалось и впрямь не ахти. Во-первых все местные жители, включая детей и стариков, говорили на древнерусском. Во-вторых, сам розыгрыш получался слишком накладным – построить средневековую деревню – удовольствие не из дешевых, и потом, когда бы кто успел это сделать.
– А видел бы ты, какими глазами они на содержимое наших рюкзаков смотрели. Ну разве хлеб проигнорировали – они свой пекут, а касаемо перца, сахара, конфет… Даже этикетками не побрезговали. Только чай цейлонский не очень восприняли. Мол, у них смородиновый лист душистее.
– А про карабин что говорили? И про часы с биноклем?
– Дабы не смущать народ обилием иноземных вещей, я часики закопал.
– А не испортятся?
– Спохватился, – хмыкнул Петр. – Уже, причем в первый же вечер. Точнее, обнаружил я их поломку вечером, а сломались они, скорее всего, в момент нашего загадочного перемещения во времени. Они ж электронные, вот и не выдержали. А карабин с прицелом и биноклем я припрятал здесь, наверху, под стрехой. Место сухое, не заржавеет. Туда же и патроны сунул. Да, – спохватился он. – Я там в твоем рюкзаке еще сотню каких-то здоровенных надыбал, и к карабину они никаким боком.
– Дядька для своих ружей попросил захватить, – равнодушно пояснил Улан.
Петр кивнул, встал, прошелся по избе, пнул носком берца ножку стола, похлопал по стене и, опершись о печку, с грустью констатировал:
– Как видишь натуральное, не из папье-маше. Мы, кстати, неплохо устроились, отдельную избу заполучили. У них в Липневке голодовка была пополам с мором, выкосило многих, часть изб опустела. Вообще-то они прошлой зимой их на дрова пустили, а эту, на наше счастье, разобрать не успели, – он невесело усмехнулся. – Староста деревенский расщедрился. Между прочим, название самой деревни производное от его имени. Его Липнем зовут, ну и деревню по его имени окрестили. Он тут навроде местного пахана или смотрящего – называй как хочешь.
Сангре тяжело вздохнул и настороженно уставился на друга, чей рассеянный взгляд блуждал по простенку между двух окон, затянутых бычьим пузырем.
– Ты о чем призадумался? – осведомился Петр. – Ищешь альтернативное объяснение всему этому? – и он широким жестом обвел печь, стол, вторую лавку у противоположной стены и прочую скудную обстановку. Улан молча кивнул. – Бесполезно. Я и сам его пытался найти, но… – Он тяжело уселся на лавку, зло шарахнул по столу кулаком и досадливо поморщился, потирая его. – Кстати, подходящее под твое описание болото я поблизости отыскал. И островок на нем имеется. Именно на нем, кстати, и отсиживался всегда при налете врагов местный народец. Но красная ряска на болоте никогда не появлялась, да и называется само болото не Красным, а Лосиным мхом. Про загадочный туман люди тоже никогда не слышали. Вывод, как ты понимаешь, напрашивается однозначный – все это произойдет позже, в Великую Отечественную. Но зато мы успешно расследовали дело об исчезновениях людей, – он невесело улыбнулся.
– Слушай, а если это какой-нибудь скит? – встрепенулся Улан. – Ну-у, вроде старообрядцев. Маловероятно, конечно, но всё лучше звучит, чем…
– Тогда они о текущих событиях в стране ничего бы не слыхали, – бесцеремонно перебил Петр, – а у них с этим полный порядок. И новости с рынка, то есть с торжища в Твери, куда они мотаются, регулярно привозят, так что я в общих чертах знаю и про обстановку на Руси, и про их местного князя. Михаилом Ярославичем его зовут, слыхал про такого?
Улан нахмурился, припоминая, затем молча кивнул. Сангре озабоченно поглядел на друга и, взяв со стола какую-то тряпицу, принялся бережно вытирать испарину, выступившую на лбу раненого.
– Не хотел говорить, – вздохнул он, аккуратно обтирая Улана. – Ох, не хотел. Ну куда на тебя мешок с такими новостями вываливать? Они и для здорового как фейсом об тейбл или ломом по хребту, а ты вон, весь поранетый. Но с другой стороны деваться некуда, надо. Ты ж, с такими непонятками столкнувшись, уже к вечеру повязки бы с себя срывал, орал матерно и требовал, чтоб тебя из дурки выпустили. Вот я и решил на упреждение сработать… Извини, старина.
– Ничего, – вздохнул Улан и легонько похлопал исхудавшей ладонью по руке друга. – Ты правильно сделал. А что еще слышал из… ну-у… местных новостей?
Сангре сокрушенно развел руками.
– Народ темный, так что про остальные княжества у меня информации ноль. Разве про козни какого-то Юрия Даниловича рассказали. Это московский князь, но его в этом году хан Золотой орды в Великие Владимирские воспроизвел, причем по блату, поскольку свою родную сестричку за него замуж выдал. Да и то знают о нем, поскольку у него с местным тверским большие разборки идут, но через почему, они понятия не имеют, – он невесело усмехнулся и подвел итог. – Словом, мы с тобой в четырнадцатом веке, старина. Если совсем точно, то ныне месяц ноябрь лета шесть тысяч восемьсот двадцать пятого от сотворения мира. – Улан нахмурился, морща лоб, но Петр остановил его. – Да не трудись с подсчетами, я их уже проделал. От рождества Христова получается тысяча триста семнадцатый год.
– Все равно… не верю.
– Ну-у, время у тебя, пока лежишь, имеется, вот и попробуй на досуге подыскать другое объяснение, – предложил Сангре. – У меня-то основной источник знаний – художественная литература, да и то не сказать чтоб в огромном количестве, а ты, помнится, перед тем, как историю России в Академии сдавать, всерьез учебники штудировал. Кстати, а откуда взялся этот московский князь Юрий Данилович и где Иван Калита? – поинтересовался он.
– Юрий – старший брат Ивана. Негодяй отпетый, клейма негде ставить, а Калита… Он придет к власти после смерти Юрия, – рассеянно пояснил Улан.
– Понятно, – кивнул Петр и устало махнул рукой. – Ладно, об остальном попозжей перетолкуем, скажем, через недельку, когда совсем оклемаешься, а пока лежи, выздоравливай, а я побежал.
– Далеко?
– Надо идти Горыне в кузне помогать. У него завтра профессиональный праздник – Кузьмы и Демьяна, то бишь его покровителей, по нашему День кузнеца получается, а работы срочной куча и нужно успеть ее всю за сегодня переделать. А ты думай, старина, крепко думай…
Едва за Петром закрылась дверь, Улан закрыл глаза, но обмозговать приключившееся с ними не получалось. Рассудок и логика вкупе со здравым смыслом упрямо отторгали произошедшее, не желая примириться с ним.
Неожиданно в памяти всплыло карточное предсказание. Странно, но сбылось оно в точности. И забвенье прошлого, и перемена жизни, да еще какая крутая перемена. Вот и не верь после этого в гадания. Правда, Петр говорил что-то о приятной поездке или отпуске в очаровательном месте вкупе с весельем, но это можно отнести на счет своеобразного карточного юмора.
Когда он наконец заснул, ему тоже приснились карты. Грозные крестовые шестерки в белых плащах азартно атаковали кучку червонных фигурок, в отдалении два вальта в черных одеяниях выкручивали руки ослепительно красивой даме треф, с мольбой взиравшей на Улана, а издали, стоя на пригорке, на него исподлобья сурово глядел пиковый король…