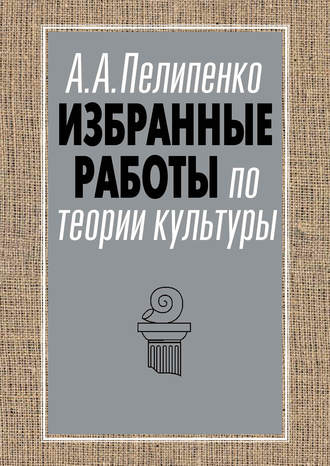
Полная версия
Избранные работы по теории культуры
Итеративное уплотнение фронта эволюции – от гигантских облаков космической пыли, через образование галактик, планетарных систем и далее: к геофизическим и геохимическим процессам на отдельной планете, а затем к биосистеме и АС, – прослеживается достаточно ясно. Однако выглядит это не как стягивание эволюционирующей Вселенной в одну единственную точку, а как процесс, протекающий в бесконечном множестве пространственно-временных локусов. В наблюдаемой нами части Вселенной, вернее, в той её части, применительно к которой можно говорить о наблюдении эволюционных процессов, межсистемные переходы – лишь «выходящие на поверхность» проявления тенденции к уплотнению перманентно оказывающего давление на систему и вызывающего в ней специфический комплекс процессов. К таковым можно отнести, прежде всего, периодически имеющие место фазовые «вторичные упрощения» [228], переупаковку структур, повышение информационной концентрации элементов системы и особенно её структурных узлов.
Наращивание структурно-функциональной сложности нацелено на снятие времени, а сжатие фронта эволюции – на снятие пространства, и нераздельность этих тенденций связана с нераздельностью самого пространственно-временного континуума. Тенденция к уплотнению пространства эволюционного конфигурирования на каждом локальном уровне противостоит всепроникающим центробежным силам.
Морфологическая и структурно-функциональная дифференцированность, будучи одним из проявлений сложности, целиком к ней, тем не менее, не сводится и представляет собой относительно самостоятельный вектор. И здесь транценденция ГЭВ предстаёт в обличье имманентных процессов: специализации форм и структур развивающейся системы в их опять же совершенно имманентном устремлении к вписанию в среду, каковой выступает совокупность материнских систем. Дифференцирование инициируется в микромире, где несепарабельные состояния под действием тех или иных интенциональных воздействий переходят в сепарабельные. Далее же вступает в силу органически присущая всякой системе направленность к неограниченному экспансивному росту, освоению всех возможных ниш в границах материнской системы, что и опосредует сквозную куммулятивную интенцию к дифференцирующему усложнению. Отсюда берёт начало необратимый распад синкретических (первоначально интегрированных) форм – один из процессов, общих для всех системных уровней эволюции. В этой необратимости – гарантия невозможности полной инволюция к пройденным уровням; она невозможна никогда и ни при каких обстоятельствах (это подтверждается законами, выведенными на материале частных систем, например, законом Долло о необратимости эволюции). В рамках отдельно взятой системы или на стыках межсистемных переходов происходят упрощение и структурнофункциональная редукция, самые разные по своим причинам и режимам протекания. Но в общеэволюционном масштабе попятное движение невозможно в принципе. И это лишний раз показывает, что сам процесс дифференцирования не выводится из имманентных процессов системы, но, будучи, им трансцендентным, опосредуется ими. В основе процесса дифференцирования (автономизации, обособления и т. п.) лежит эффект декогеренции квантовых суперпозиций, в результате которых появляются локальные классические объекты. Последние, будучи приторможенными «сгустками» интенциональных потоков, самоорганизуются в структуры и далее – в системы. При этом каждая из структур, вовлечённых в эволюционный процесс, достигая определённого уровня сложности и отделения от целого, стремится воспроизвести в себе в наибольшей полноте характеристики исходного целого. В этом одно из проявлений универсальности дезинтегративной силы, обнаруживающей себя через глобальный эволюционный вектор дифференцирования. Движущей же силой дифференциации выступает принцип комбинирования, проявления которого будут неоднократно рассматриваться по ходу исследования.
Нарастание субъектности выражается в неуклонном повышении способности новообразованных систем к обратному влиянию на среду (прежде всего, материнскую систему), усилению автономности (возможностей саморазвития благодаря внутренним противоречиям), а также концентрации когнитивных потенций в отдельных элементах системы. На стадии культуры этот вектор вызывает к жизни феномен субъекта с присущей ему способностью к рефлексии и когнитивному моделированию. Забегая вперёд, скажу, что под субъектом здесь понимается не только человек, что само собой разумеется, но также и сама культура как системное образование. Субъект, таким образом, не равен субъектности. Начала субъектности усматривается и на микроуровне, и на уровне биообразований[61].
Субъектность – общая тенденция, направленность ГЭВ, лишь на стадии культуры достигающая относительной самоадекватности.
Становление субъектности задаётся действием упомянутого выше принципа центрообразования: структурная конфигурация некоего локального фрагмента пространственного-временного континуума организуется в окрестности определённой точки фокуса. На микроуровне таковой может выступать энергетический узел, сгусток поля, на биологическом уровне – клетка, затем живой организм и по ходу разворачивания биосистемы – группы организмов, популяции. Поведенческо-ролевая дифференциация в популяциях высших животных точку – организующий центр (по крайней мере, некоторые его функции) совмещает с отдельной особью. Например, у приматов в роли социального центра выступает альфа-самец. Вообще, примечательно, что «… в процессе эволюции повышалась степень целостности популяций и вида» [100, с. 205]. Здесь мы наблюдаем дальние эволюционные подступы к тем уровням целостности и автономности, на которых будет проявлено историческое становление субъектности человека.
Центр, в силу разнообразных внутриструктурных комбинаций и «розы ветров» перекрестных взаимодействий, оказывается в позиции наиболее устойчивого элемента становящейся структуры. На себе он фокусирует все ключевые позиции её внутренних связей и неуклонно наращивает свойства субъектности: способности к автономному от внешней среды целеполаганию, к самоорганизации и рефлексии. Но эти свойства центра проявляются не в отрыве от всей структуры, а в контексте их нераздельного и взаимообусловливающего существования, где центр задаёт высшую точку и форму проявления самости, на которую способна выйти структура как целое.
Во всех системах до появления Культуры над центрированием все же центробежные силы со стороны периферийных элементов структур, хотя их преобладание неуклонно уменьшалось. Становление Культуры окончательно это соотношение изменило: с одной стороны, центр структурирования сместился в человеческий мозг, дав импульс историческому развитию индивидуальной самости, и, с другой стороны, открылась возможность для развития субъектности самих культурных паттернов и входящих в них структур – институтов, традиций, смысловых комплексов и т. п. Но эту ситуацию не следует понимать как поражение центробежных сил: наращивание центрирующей самости в Культуре оплачено было усилением отпадения от реликтовой холономности «нижних» системных уровней. Тема эта ещё не раз будет затрагиваться в данном исследовании.
Наращивание субъектности и ее максимизация в Культуре существенно затрудняют, а то вовсе ставят в тупик представителей естественных наук, если они пытаются протекающие к Культуре/АС процессы описать такими терминами, как энергия (в её узко физическом понимании), энтропия, метаболизм, энергия (в том же узко физическом понимании) равновесность и др. Усилия редуцировать процессы АС к физическим законам и схемам самоогранизации неизбежно приводят к парадоксам и путанице.[62] Разумеется, нарастание субъектности, не будучи, как и другие ГЭВ, заданным проивиденциально, может быть контекстуально редуцирован к сумме естественных процессов. Но как целое, в своей транссистемной направленности, из них он никоим образом не выводится.
Обобщая всё сказанное, можно сделать вывод, что рождение и эволюция структур происходят не путём «ползучего» приращения, постепенного добавления элементов в конфигурацию, которые могли бы, как это мнилось Дарвину, кита преобразовать в медведя. Напротив, имеет место симультанное (иного слова не подберёшь) совпадение потенциальной импликативной формы с совокупностью точечных «посюсторонних» элементов, готовых организоваться в структуру и тем самым воплотить, опредметить импликативный паттерн. Стремление формы (наличной структуры) к абсолютному совпадению со своим «запредельным» паттерном рождает один из важнейших аспектов диалектики существования любого рода образований: от физической и психической организации организма до макросистем. Здесь коренится и основание эволюционного типологизма (чем объясняется пресловутая проблема отсутствия переходных форм), и дуализм того, что принято было называть материальным и идеальным (психофизический дуализм), и объяснение многочисленных спонтанных проекций паттернов когерентного мира в мир эмпирический. Достаточно вспомнить универсально распространённый в архаике (о более поздних временах не говорю) мотив двойственности всех вещей: наличия у каждой вещи или существа некоего незримого психического двойника, онтологически принадлежащего (хотя бы отчасти) иному, трансцендентному миру. Двойник этот, несомненно, есть не что иное, как посредник между каузальным и когерентным мирами, отношения с которыми определяют самые важные и глубинные стороны жизни: идентичность, саморефлексию и экзистенциальное[63] самоопределение. Развитие этой темы в контексте интерпретации т. н. паранормальных явлений – в гл.3.
В самом общем и схематичном виде связь медиации между двумя мирами с механизмом общеэволюционного процесса может быть сформулирована следующим образом:
– будучи универсальной для всех уровней и планов реальности, интенциальность осуществляет всеобщий диалог онтологических модусов: как потенциального, так и сущего;
– рождение и эволюционирование новых структур в эмпирическом мире связано с актуализацией, «вытягиванием» их из мира потенциального в план наличного бытия по дискретным точкам, интерференционным узлам, созданным интенциальными силами[64].
Актуализация эта обусловлена рядом обстоятельств: так, структуры некоего порядка сложности восприимчивы лишь к релевантным по отношению к ним интенциальным импульсам. Т. е. существует определённая корреляция между уровнем сложности опредмеченных структур и сложностью предсуществующих в импликативном мире структур следующего эволюционного уровня. При этом испускаемые ими «оттуда» интенции (импульсы) «здесь» могут быть считаны лишь структурами определённого онтологического порядка и уровня сложности. Поэтому скачки эволюции[65]имеют ясно ограниченные пороговые величины, определяемые уровнем и формами проявления ГЭВ в материнской системе, ибо интенциальные импульсы более высокого порядка системой просто не воспринимаются. Этим объясняется стадиально-поступательная компонента эволюционного движения, не знающего перепрыгивания через несколько ступеней. В единичных случаях имеют место и разного рода точечные прорывы за эволюционный горизонт, но в целом разбег эволюционного фронта – т. е. диапазон считывания паттернов скрытого порядка – определяется дельтой изменчивости «принимающих устройств» и настроек системы. Все эти вопросы дальнейшее развитие получат в гл. 3.
1.4. Двунаправленность эволюции
Принцип дуализма, универсальный для сепарированного, дискретизованного, нехолономного модуса бытия проявляется не только в противоречивом стремлении всякой системы к изменению и самосохранению. Дуалистически противоречива и сама эволюционная динамика. Здесь подхожу к одному из важнейших положений – концепции двунаправленности эволюции. Видение эволюции как однонаправленного процесса, пусть даже с учётом разнообразно понимаемой нелинейности, стало следствием целого ряда методологических тупиков. По моему убеждению, оно одностороннее и методологически ущербное (речь сейчас не идёт лишь о концепции линейного прогресса, вытесняемого нелинейными эволюционными парадигмами). При таком подходе направляющие силы эволюции приходится искать где-то за пределами самой эволюционирующей системы, что неизбежно приводит к провиденциализму и одиозным, а главное, мнимым метафизическим объяснениям.
Чувствуя спекулятивную надуманность этих объяснений, но не имея в рамках физикалистско-позитивистского подхода иных, некоторые авторы с обезоруживающей прямотой вопрошают «Какова движущая сила эволюции? Следуя автогенетическим традициям, мы полагаем, что взаимодействия (материя) сами (сама) по себе являются (является) движущей силой эволюции, которая не нуждается, таким образом, ни в каких специальных движителях» [263, c. 12]. Поневоле, позавидуешь «технарям», не обременёнными философскими вопросами!
Эктогенетические теории (в частности, дарвинизм), как правило, сводят содержание эволюционных процессов к адаптации и специализации форм, не выходя за рамки взаимоотношений эволюционирующих структур с внешней средой, упуская из виду, что изолированные системы тоже могут эволюционировать. Поскольку же само понятие эволюции неразрывно связано с адаптивизмом, то, сталкиваясь с ситуациями, когда адаптивистские объяснения не работают, исследовательская мысль прибегает к натяжкам, подгонкам, более или менее явному жульничеству и передёргиванию. Уходя от крайностей адаптивистского подхода, исследователи часто оказываются в плену крайнего автоморфизма или преформизма. Чувствуя бесплодность метаний между полюсами адаптивизма и автогенетизма, ряд авторов прибегает к таким определениям, как прогрессивная или магистральная эволюция, теоретические концепции которых всё же оказываются недостаточно внятными. При этом необходимость более чётко разграничивать эволюционные направления уже назрела со всей остротой [263, c. 174].
В связи с этим рискну предложить принципиально иную модель. Комплекс изменений, связанный с адаптацией и специализацией структур и форм в эволюционном становлении системы, можно условно назвать горизонтальным, или внутрисистемным направлением эволюции. Наряду с ним, однако, действует и другое – вертикальное направление, связанное с транссистемным устремлением ГЭВ. Направление это – не просто продолжение внутрисистемной эволюции, или выведение её процессов за пределы системы, как это нередко представляют пишущие о магистральном направлении в эволюционировании. Это процесс, имеющий принципиально иную природу и механику, которые коренятся в неизбывном противоречии между бесконечностью принципа и конечностью форм его воплощения. Под бесконечностью принципа здесь подразумевается трансцендентность вышеперечисленных ГЭВ по отношению к каждой локальной системе, в которой они себя обнаруживают. А эволюционная лестница конечных форм являет прогрессию становящихся и неизменно останавливающихся в развитии дискретных структур, всякий раз ограниченную рамками системной конфигурации. Поскольку всякое горизонтальное эволюционирование – разворачивание системы вширь – обусловлено контекстом взаимодействия со средой (эпигенетической суммой материнских систем), это с неизбежностью умаляет чистоту воплощения принципа в каждой конкретной ситуации, ибо становящиеся формы оказываются не абсолютным выражением устремлений ГЭВ, а компромиссом со средой. Иными словами, в любой эволюционной ситуации возникает нетождество и, соответственно, конфликт между универсальными принципами конфигурирования и наличной конфигурацией. Причина конфликта в том, что наличная конфигурация всегда несёт в себе черты компромисса с активно воздействующей на её формирование средой и с самим материалом эволюционирующей системы.
В силу этого конфликта вечно неудовлетворённый интенциальный принцип ГЭВ и предстаёт сквозной транссистемной силой. По мере того, как дифференциация и специализация форм всё больше вязнет в горизонтальном растекании и адаптационном освоении всех возможных ниш среды, усиливается вертикальное (транссистемное) влияние, стремящееся переориентировать эволюционный фронт, взломать «съезжающую в горизонталь» конфигурацию и воплотить интенциальный принцип на более высоком (в идеале – абсолютном) уровне проявления. Для этого вертикальные силы отыскивают в системе наименее специализированное звено и «выталкивают» его на следующий эволюционный уровень. Высоко специализированная форма к вертикальному эволюционированию не способна в принципе[66]. Кроме того, каждая установившаяся в ходе эволюции форма – от отдельных автономных образований до всей локальной системы – «не знает», что она не последний и окончательный «венец творения», и потому стремится заблокировать любые дальнейшие изменения. Отсюда неизменное для всякой системы стремление к самосохранению и минимизации изменений[67]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Надеюсь, употребление слово «раса» само по себе не преступление.
2
Имеется в виду не арифметика, а ориентированность сознания не на вербальный, а на цифровой код.
3
АС – понятие более широкое, чем культура, ибо включает в себя и ту часть природы, которая непосредственно вовлечена в человеческую деятельность. Есть и некоторые другие отличия, но о них поговорим позднее.
4
Речь идёт о гипотетической технической возможности перенаправлять вектор времени и бесконечно возвращаться в прошлое и проживать в нём потенциально бесконечное количество параллельных жизней.
5
Учёные из университета Чикаго установили, что человеческий мозг продолжает развиваться. Сравнительный анализ генома современного человека и homo sapiens sapiens (37 тыс. лет назад) показал существенное различие в строении двух генов, отвечающих предположительно за объём человеческого мозга. Одна из мутаций произошла ок. 5, 8 тыс. лет назад. Такой мутированный ген есть лишь у 30 % ныне живущих людей, что само по себе в высшей степени примечательный факт. Изменения в этом гене (microcephalin) соотносятся с культурными инновациями эпохи неолита и последующего перехода к цивилизационному, т. е. качественно более сложному укладу жизни. С теми же процессами связано и появление варианта второго гена (ASPM). Д-р. Брюс Лан (Вгисе T. Lahn) считает, что эти два гена определяют тенденцию постепенного увеличения объёма мозга и усложнения его структуры [Scientific American Magazine. Vol. 309. № 5741, September 9, 2005]. Впрочем, не совсем понятно, как это сочетается с общеизвестным фактом неуклонного снижения объёма мозга в раннеисторическую последующие эпоху.
6
Маленькие радости (франц).
7
Того, что философия не более чем частная сфера культуры, подчиняющаяся законам самоорганизации общекультурного целого, а не трансцендентному культуре «абсолютным наблюдателем», не замечают разве что сами философы, давно, впрочем, махнувшие рукой на свои «прямые обязанности» – объяснение мира как целого и разработку методологии частных наук. Потому их уныло-кокетливые предвидения того, что в XXI веке философии не будет, скорее всего, оправданы.
8
«Здесь видимость предметов как таковая составляет подлинное содержание, но искусство, схватывая мимолётный внешний вид, идёт ещё дальше, независимо от предметов, изобразительные средства становятся сами по себе целью, так что субъективное мастерство и применение художественных средств сами возводятся до уровня объективных предметов художественных произведений… Подобно тому, как дух, мысля, постигая, воспроизводит для себя мир в представлениях и мыслях, так теперь главной задачей становится (независимо от какого-либо предмета) субъективное воссоздание внешнего вида с помощью чувственного элемента красок и освещения» [58, с. 311].
9
В полной мере осознаю, что состыкованный из разноязычных корней термин «смыслогенетическая» звучит как варваризм: смесь французского с нижегородским. Лучшего, однако, найти не удалось. Оправдание нахожу не только в возросшей в последнее время терпимости к подобного рода варваризмам, но и в том, что, перенося, согласно заветам В.И. Вернадского, принцип организации знания не по наукам, а по проблемам в сферу самой терминологии, можно позволить себе некоторые потери в изящности стиля.
10
На этом уровне обобщения я позволю себе не копаться казуистически в цеховых различиях между культурологией и теорией культуры.
11
Справедливости ради надо отметить, что отечественная культурология действительно имеет мало общего с тем, что понимал под ней Я.Уайт.
12
Здесь необходимо пояснить употребление термина эмпирическое со всеми его производными. В строгом философском понимании, к сфере эмпирического относится как мир налично данных и чувственно воспринимаемых вещей, так и мир ноуменов. За пределами эмпирического, таким образом, оказываются лишь трудно формализуемые проекции мира трансцендентного, т. е. принципиально недоступного опыту. Однако стихийно сложившаяся практика употребления скорректировала содержание термина в сторону разграничения опытно воспринимаемого и умозрительно-спекулятивного, где под эмпирическим понимается лишь первое. Отдавая отчёт в известной некорректности, я буду придерживаться именно такого понимания, поскольку иной общепринятой терминологии для разграничения указанных сфер не существует. Таким образом, эмпирическое в широком смысле в данном контексте будет пониматься как противоположное спекулятивному.
13
Современная методология исторического знания, разумеется, к такой простой формуле не сводится и предполагает разнообразные позиции исследователя, отличные, тем не менее, по своей познавательной парадигме от позиции культуролога.
14
Входя в поле организмических ассоциаций, простирающихся от позитивизма 40-х гг. позапрошлого века (О. Конт, Г. Спенсер) и цивилизационных теорий (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер) до социологии прошлого (Э. Гидденс и др.) века, спешу оговориться, что степень и характер метафоричности этих ассоциаций будет всякий раз определяться конкретным контекстом.
15
Здесь культурология движется в русле современной постнеклассической науки и, не претендуя на пальму первенства, предлагает свои методы и модели.
16
Контекст употребления термина культура с большой и маленькой букв будет пояснён в гл.1
17
Автор адапционистской модели «вызов и ответ» А. Тойнби в поздние годы пришел к пониманию её ущербности и сам же блестяще её дезавуировал. «По мере роста всё меньше и меньше возникает вызовов, идущих из внешней среды, и всё больше появляется вызовов, рождённых внутри действующей системы или личности. Рост означает, что растущая личность или цивилизация стремится создать своё собственное окружение, породить своего собственного возмутителя спокойствия и создать собственное поле действия» [233, с. 250].
18
Культурология не задаётся вопросом об универсальности или философской эвристичности Гераклитова понимания логоса как единства противоречий, стоящего над ними. Она ставит вопрос о том, почему такое понимание могло появиться именно на европейской (греческой) почве и именно в это время.
19
Современными на сегодня принято считать квантовые и космологические теории, возникшие примерно в 80-х гг. ХХ века.
20
Например, догадка о том, что в точке бифуркации возможно не всё что угодно, а лишь ограниченный (в более жёсткой формулировке – изначально предопределённый) набор вариантов, преподносился синергетиками как открытие. Между тем такого рода представления хорошо разработаны ещё в классической философии. Да и современной квантовой физике есть что сказать на эту тему.
21
Впрочем, в работах таких авторов, как К. Прибрам, Т. Лири, (авторитет этого автора, впрочем, часто оспаривается) Р. Орнштейн и некоторых других, обнаруживается не только содержательное продвижение в глубь чёрного ящика со стороны нейрофизиологии, но и развитие самих методолого-парадигматических оснований такого продвижения. Не случайно 90-е гг. прошлого века (вне связи с упомянутыми выше именами) назвали «десятилетием мозга». Заметных успехов достигла и когнитивная психология (У. Найссер, Дж. Брунер, Дж. Лакофф, Т. Бивер, Л.А. Миллер и др.)

