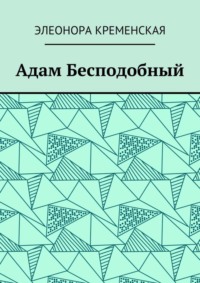Полная версия
Пьяная Россия. Том первый
Сверкая разноцветными хвостами, то и дело шмыгали из стороны в сторону ковровые гуппи. У поверхности воды воинственной толпой носились рыжеватые активные меченосцы. Изящные гурами неторопливо и вдумчиво обследовали каждый камушек на дне.
Рогатые улитки кормились, бодро проползая по прозрачным стенкам аквариума и подбирая жадными ртами невидимые для человеческого зрения, частицы еды со стекла.
Аквариум Ваське подарил ее родной дядя. Он шумно ворвался в деревенский быт Васьки, перевернул всю её жизнь вверх ногами и умчался обратно в Печору, к своим буровым вышкам, где и работал не хилым начальником. А она только и запомнила ласковые смеющиеся глаза, лучики морщинок, разбегающиеся по всему лицу от смеха и пышные белые усы, которыми дядя так и норовил пощекотать ее щеку. Запомнила сильные руки и крепкое плечо. На плече у дяди она разъезжала без страха, на зависть босоногим друзьям и подружкам.
Все за нее радовались. Все. Одна лишь косоглазая Катька бросила ее скакалку в деревянную уборную. Белую скакалку с красными ручками подарил Ваське дядя. Завистливой Катьке Васька разбила нос. Воспитательница хмыкнула и скорее для порядка поставила Ваську в угол, а зареванную Катьку отвела к медсестре. Лучшего наказания и придумать было нельзя, Катька год назад переболела воспалением лёгких и долго еще после больницы сидела на стуле на подушке, твердого сидения не могла вынести. Подружки с ужасом разглядывали как-то ее исколотую, синюю от уколов, тощую попу. Людей в белых халатах она стала бояться, как огня, сразу поднимала дикий рёв. Ваське не было жаль её. Катькину родню во всей деревне не любили. Косоглазые, так говорили про них и подозревали в колдовстве. Бабка Кати косила, у матери тоже что-то такое было с одним глазом, дед вообще никому в глаза не смотрел, а только хмурился и прятал взгляд. Разве что отец у Катьки, вечно пьяненький, весело скакал по улицам, беспечно толкался у совхозной конторы, где сердитый бригадир хватался за голову, не зная, на какую работу пристроить пьянчужку и обычно давал самое грязное, самое противное дело, вроде, как выгребать навоз из-под свиней.
Васька с Катькой не дружила и враждовала, интуитивно чувствуя недобрую зависть исходящую, пожалуй, даже от ее куцых косичек перевязанных обычными канцелярскими резинками, что уж говорить о косом взгляде полном презрения и скрытого вызова.
У самой Васьки в косичках всегда были вплетены цветастые шелковые ленты.
Банты, капроновые, атласные, во множестве валялись в верхнем ящике комода, выбирай, какой хочешь. Носила Васька красивые платья, которые присылали многочисленные родственники со всей страны. Вот и дядя привез из Печоры три трикотажных платья в горошек. Платья на вырост, еще великоватые, свободно висели на плечиках в шкафу, и Васька трогала их трепетной рукой. Она любила наряжаться.
И часто вертелась перед зеркалом, поднимая то одну руку, то другую, изображала балерину, делала ласточку и была рада всякой новой вещице. А сорока, что жила неподалеку, на высокой сосне, заглядывала к ней в окно и трещала, кивая. Наверное, одобряла очередной цветастый наряд Васьки. Каждое приобретение, будь то новый бант или блестящая брошка вызывали целую волну восхищения и со стороны вездесущей сороки, и со стороны Васьки. У нее даже игрушки сплошь состояли из разных пуговиц, хранящихся у матери в большой круглой коробке из-под шляпы. Васька могла часами раскладывать цветные пуговицы на круглом столе в комнате. Что она видела в это время в своем воображении, во что играла, неведомо, только глаза у нее разгорались и она что-то такое шептала, а взволнованная сорока на сосне трещала, усиленно лезла к окну и раз не выдержала, с шумом обрушилась на подоконник норовя ворваться в комнату и вероятно унести одну из блестящих пуговиц в клюве, но сорвалась и рухнула под окно, в клумбу белых ромашек. Васька увидела, как промелькнул длинный хвост, впрочем, через пару дней, сорока опять восседала на ветке сосны и трещала оттуда, как ни в чем не бывало.
Дядя привез аквариум. Это было целое событие не только в жизни Васьки, но и деревенских детей, никогда не видывавших не то, что аквариумов, но и вообще ничего, кроме деревни и природы вокруг деревни. Конечно, она позволила любознательной детворе поглядеть на аквариум и створки окошка для удобства раскрыла, в дом, правда, не впустила никого, опасаясь катькиной негативной реакции. А Катька повисела-повисела на подоконнике, поглядела-поглядела то так, то этак и полная высокомерного презрения высказалась вслух, что рыбы, как рыбы, вон в реке таких полно плавает…
Наверное, на сей раз Катька оказалась права. Действительно, летом, в жару и Васька, и Катька, и все деревенские дети из реки не вылезали.
Сухой склон берега, весь в пятнах солнечного света, нагревался за день, будто горячий бок печки. В воде полоскала темно-зеленые листья плакучая ива, несколько желтых кувшинок неторопливо покачивались под ее ветвями. Река приятно журчала, перекатывая белые и цветные камушки, и текла себе куда-то, извилисто петляя, и то, становясь глубокой-глубокой, то делаясь мелкой-мелкой, так что плывущим вслед за течением стайкам рыб приходилось прыгать из одной глубины в другую, перепрыгивая через мелководье и часто-часто можно было наблюдать следующую картину. Большой серьезный полосатый окунь застигнутый врасплох мелководьем ложился на бок и принимался кувыркаться, пока не достигал заветной глубины, где приходил в себя, расправлял плавники, кружился на месте, как бы стараясь освоиться, заглядывал зачем-то в темные норки к речным ракам и устремлялся дальше, чтобы опять через какой-то поворот реки выпрыгнуть на мелководье кувыркаться.
Катькин отец, бывало, часто притаскивался вслед за детьми к реке. Долго лазал по мелководью, пытаясь схватить за жабры вертлявую рыбу. И его семейные трусы в полоску промокали насквозь, обнажая бесстыдно, то, что в обыкновении даже дети скрывают друг от друга. Но он увлеченный ловлей рыбы, не замечал ехидных насмешек глазастых зрителей, всегда толпившихся тут же, на берегу. И только Катька злилась, косила сильнее обыкновенного, негодовала на насмешников, кидалась, потрясая сухенькими кулачками. Своими действиями она, наоборот, распаляла насмешников. А ее глупый пьяненький отец улыбался безмятежно и пофыркивал на пойманного окуня, бьющегося у него в скрюченных от усилия, пальцах. Так, под жабры и нёс драгоценную рыбину, вышагивая босиком, в мокрых семейниках до колен, от реки, через деревню, до дома. А злая Катька, сгорая со стыда, несла следом его вещи.
Васька была из нормальной семьи. Веселая здоровая мать, работящая, никогда не унывала, никогда не сердилась. Всегда работала, Васька ее без работы и не видывала, всё, она была либо в поле, либо в совхозных теплицах, либо при малых телятах. Без ропота и слез. Дома также либо воду таскала в ведрах на коромысле, либо корову доила, либо дрова рубила, либо огород пропалывала. Да и сама Васька от нее не отставала, прибиралась, убиралась, крутилась по огороду и по дому. Есть особая порода людей, называется она – крестьяне. Крестьяне не могут жить в городе, им там заняться нечем. Они недоумевают на городских, как это можно сидеть и ничего не делать?! Крестьяне от зари до зари заняты, такова их доля, гнуть спину. Но при этом крестьяне не чувствуют особенного напряжения.
Они рады восходу солнца и как древние язычники кланяются долгожданному светилу, правда, при этом бормочут вслух православные молитвы, навязанные им упрямыми христианами еще тысячу лет назад.
Они разговаривают с курами и цыплятами, а горделивого петуха любят и поощряют любые его выходки.
Они обихаживают яблони и вишни, посаженные возле дома, и обязательно рассказывают деревьям о своих опасениях и проблемах, не понимая, что также поступали, и язычники, их предки, жившие в России еще до христовых времен.
Они сердятся на сорняки в огороде и советуют им поискать другие места для роста, есть же пустоши и дикие поляны.
Была у Васьки бабушка, но уже настолько больная, да старая, что с печи не слезала. По ее просьбе, Васька часто ей таскала что-то из мира природы. Для нее она вырастила в горшке укроп. Для нее преждевременно расцвела молоденькая верба, посаженная Васькой, как есть, в большой горшок. Слабая бабушка улыбалась любимым растениям и тянулась понюхать. Была она уже настолько хрупкой и легкой, что часто снилась Ваське летающей над печкой. Тусклые глаза ее тогда разгорались и светились таким же ярким лучистым светом, как и у матери.
Правда, в доме отсутствовали мужчины, не было у Васьки отца, не было и деда. Дед лежал на деревенском кладбище. Каким он был при жизни, Васька судила только по старым пожелтевшим фотографиям. Откуда он смотрел на нее напряженным недоверчивым взглядом, будто всегда ожидающим от нее какой-нибудь пакости. Васька, чтобы умилостивить деда, сама посадила на его могиле землянику. И ей показалось, что взгляд деда смягчился.
На вопрос об отце, мать только отмахивалась и смеялась, что, мол, отец у Василисы никто иной, как вольный ветер, полетал-полетал да и улетел, а она, дочурка осталась…
Васька, сидя на льду, как-то не чувствовала холода, ей отчего-то было жарко, появилось нечто новое и еще неосознанное, вдруг, она почувствовала какое-то странное ощущение в затылке и сразу поняла, что за спиной кто-то есть.
Она резко обернулась и, конечно же обнаружила Катьку, кого же еще можно было увидеть, как не косую девчонку?..
Губы Катьки обветрились, словно в лихорадке и косые глаза сверкали из-под темных ресниц странной решимостью.
Васька подозрительно вглядывалась в закутанную, перевязанную дырявым шерстяным платком, нескладную мелкую фигурку Катьки. Чего ей надо?
Катька сделала выпад, схватила за веревочку ледянки и сразу же, бегом ринулась к горке. Васька проводила ее недоумевающим взглядом. Она, итак санки бы дала, стоило Катьке попросить. Ей самой кататься расхотелось, какая-то слабость внезапно охватила все тело Васьки. Она тяжело поднялась со льда и, преодолевая ломоту, побрела домой.
А ликующая легкой победой, Катька, словно заводная игрушка, скатывалась с горки на васькиных ледянках и тут же лезла с ними, обратно, в гору.
Вечером пришла с работы мать и нашла пылающую простудой, изможденную Ваську. У девочки еще хватило сил добраться до кровати, но раздеться не смогла, так и валялась в тяжелом пальто и шапке, мокрая от пота. Мать, пахнущая теплым хлебом, молоком и телятами, быстро сбегала за фельдшерицей. Врачиха без разговоров вколола Ваське укол понижающий температуру. Всю ночь у них в избе горел свет, металась мать с лекарствами и холодными компрессами, а слабая бабушка свешивалась с печи, спрашивала скрипуче и однообразно, что с Васькой?
Васька спала и не спала. Время для нее то тянулось невыносимо долго, то бежало скачками. Васька плакала от утомительного нездоровья и томилась от скуки. Тело ее не находило покоя. Ноги беспокойно ёрзали, сбивая простынь в ком. Она не могла заснуть и нет-нет, да и вспоминала очередную паскудную выходку Катьки. И корчилась от негодования и неприятия.
К утру кризис прошел и Васька, наконец-то уснула. А днем, проснувшись, обнаружила возле своей кровати неподвижную, зареванную Катьку. Оказывается, Катька решила, что Васька из-за нее заболела, да, вон, они, санки в сенях стоят, рыдала Катька и цеплялась худыми руками за одеяло. А Васька глядела на нее и удивлялась самой себе, как она могла с нею враждовать, чего они не поделили? Банты с лентами, так вон их целый ящик; платья с юбками, так их целый шкаф, носить, не переносить, тем более, Катька была худее и меньше ростом, стало быть, вполне могла брать вещи, из которых Васька уже выросла; аквариум с рыбками, так вон он стоит, булькает, гляди, не хочу!.. Косые глаза, так у кого из нас нет недостатков? У одного бородавка на лице, у другого уши лопоухие, у третьего нос кривоватый, да что оно такое – тело? Сегодня есть тело, а завтра нету, сбросил и пошел себе к ангелу смерти, какой есть, одним словом, душа!..
И Васька протянула руки, погладила плачущую Катьку по голове, подтянула к себе, дружескими объятиями прерывая потоки слез. Так они и уснули вместе, крепко обнявшись, и Катьке, не сомкнувшей глаз за всю ночь болезни Васьки, снились безмятежные сны, в которых они обе дружили…
А в окно на спящих девочек заглядывал пьяненький катькин отец и ходил на цыпочках вокруг дома, цыкая на шумливую сороку, охраняя покой и счастье двух маленьких подруг…
Бродяга
Тяжело ступая, опираясь на суковатую палку, человек подошел к домам небольшой деревушки, сбросил рюкзак со спины и попросил у занятого прополкой старика помощи.
– Помогай тут всяким, – проворчал старик, не отрываясь от своего огорода, – а самим голодом сидеть.
– Не дадите ли кружку молока?
– Нет!
– Немного хлеба?
– Нет! За хлебом мы в город ездим.
– Может, яблок? – указал прохожий на яблоки, во множестве валяющиеся под несколькими отяжелевшими от плодов яблонями.
– Яблоки мы продаем! – буркнул старик, выпрямился и, устремив на человека полный негодования взгляд, заявил. – Ну, дальше что попросишь?
– Сигарету, одну сигарету!
– Нету! Иди, ступай, деревня не маленькая, авось, какой идиот и подаст тебе!
Под недоверчивым взглядом старика бродяга взвалил себе на плечи рюкзак и побрел прочь согбенный не столько усталостью и голодом, сколько жестоким отношением людей. Как он и ожидал, история повторилась. В каждом доме ему отказывали и гнали прочь, пока и вовсе не выгнали.
Человек прошел метров пятьсот по утоптанной тропинке и остановился на ночлег в березовой роще, на кладбище. Он присел на широкую деревянную скамью, мрачно прислушиваясь к хриплому карканью ворон свивших гнезда на верхушках старых берез. А потом, подчиняясь импульсу, вскочил, с любопытством заглядывая в глаза тех, кто когда-то жил в деревне, а теперь улыбался ему с памятников. Открытые простые лица, люди как люди…
На кладбище бродяга нашел початую бутылку пива и два пирога с капустой, что кто-то принес на помин души. Сел, поел. В сгущающихся сумерках разглядел развесистые яблони, ни мало не сомневаясь, обтряс их. Собрал яблоки в рюкзак, дополнительно набил мешок, что нашел тут же, на ограде.
Ночь он провел на скамейке. Улегся, укрылся курткой с головой, чтобы не слышать назойливого звона комаров.
А утром уже вышагивал к трассе, до которой было километра три, не более. На попутном грузовичке добрался до города, где на местном рынке продал кладбищенские яблоки.
Тут же стоял старик, что прогнал бродягу с самого начала. Старик с него глаз не сводил.
– Ладно, парень, – сказал старик, отпуская городской лакомке свой товар, молоко и творог, – обнес у кого-то яблоню, хорошо, что не у меня. Но если увижу тебя возле нашей деревни, так и знай, подстрелю! Ружье у меня на медведя заряжено!
– Вы ошиблись! – равнодушно обронил бродяга, повернулся и пошел прочь от рынка с пустым рюкзаком и мешком, но полными карманами денег.
Старик с опаской пробурчал ему что-то вслед.
Каждый день они сталкивались на рынке. Бродяга спешил. Осень наступала ему на пятки. Он приносил мешки яблок, слив, картошку, свеклу, морковь.
Старик продавал молоко, пересчитав деньги, разворачивал полотняный мешочек, и аккуратно свернув драгоценные бумажки, завязывал резинкой, а после запихивал в нагрудный карман, поближе к сердцу, не забыв еще и скрепить карман булавкой.
– Ну, а зимой что? – поинтересовался как-то старик. – Воровать будет негде, все замерзнет, поля, огороды снегом заметет. Что будешь делать?
– Вам, не все ли равно? – отрезал бродяга и отвернулся с досадой, о зиме он тоже подумывал.
Стукнули заморозки, земля заледенела, покрылась мохнатым инеем.
Бродяга допродавал остатки овощей. Больше ничего не было. Зато он смог на вырученные за время торговли деньги накупить себе теплой одежды, приобрел толстую зимнюю куртку, зимние сапоги, прозванные в народе «дутышами».
– Куда ты теперь? – окликнул его старик.
– А куда глаза глядят! – рявкнул бродяга. – И чего пристаешь, любопытно, как я докатился до жизни такой?
– Любопытно! – кивнул старик, с надеждой во взоре уставившись на бродягу.
– Ну, так слушай! – рассвирепел бродяга, вцепившись в воротник куртки старика, чтобы не вырвался и, придвинув заросшее бородой лицо к лицу своего слушателя, принялся рассказывать.
– Убил я человека в пьяной драке, повздорили на остановке общественного транспорта. Пустяшная ссора, однако, смерть не задержалась и меня повязали. Осудили, посадили в тюрьму. Отсидел, вышел, а домой меня не пускают. Жена ушла к другому, квартиру заняли две дочки на выданье и обе с мужиками. Избили меня зятья да на улицу выбросили. Я ушел. Занял дачу, которую вместе с женой покупали. Подал на дочерей в суд, но ничего не добился, денег у меня на адвокатов не было, а тут весна подоспела и мои обнаглевшие детки после недолгой драки выкинули меня и с дачи.
– А ты поджег бы дачу-то! – вставил старик.
– Я хотел, – кивнул бродяга, – но обе дочери мои были беременны. Внуков обижать я не стал.
– А жена? – допрашивал старик.
Бродяга только рукой махнул. Взял свой рюкзак и побрел прочь.
– Погоди! Да погоди ты!
И догнал его, пошел рядом:
– Дом у меня большущий, коз пять штук в сарайчике, корова с теленком в хлеву, кролики, будь они не ладны – обжоры!
Бродяга остановился. Встал и старик.
– Огород, опять-таки дальний огород, где картошки насажено видимо-невидимо, всю спину обломаешь над сорняками, а силы-то уже не те…
– К чему это ты? – спросил бродяга, закуривая.
Старик достал пачку папирос:
– Нечего тебе мытариться, иди ко мне жить!
– А хозяйка как же?
– Нету хозяйки, на кладбище она, – опечалился старик.
– А дети?
– И детей нету. Старший, Васька спился, похоронил я его возле матери. Средний, Ванька захлебнулся по пьяни в реке, там же на погосте лежит. Ну, а третья дочурка, Настасья связалась с алкашом, он ее и порешил.
– Что же они у тебя все пьяницами были? – потрясенно промолвил бродяга.
– А то как же, – кивнул старик, – в России живем. Нынче нормальных детей и нету ни у кого. Если не пьет, значит злобный, себе на уме, того и гляди яду тебе подсыпет. Сдохнешь, а он дом продаст, купит себе «Мерседес» и будет ездить, красоваться перед девками да перед друзьями самоутверждаться.
– Ну да? – не поверил бродяга.
– А ты своих дочерей вспомни! – посоветовал старик и добавил с горечью в голосе.
– Более глупого, жадного и деспотического народа, нежели русские трудно теперь сыскать на всем белом свете!
Подумав, бродяга согласился с мнением старика.
– Ну, пошли домой, что ли?! – предложил старик.
И они пошли. Рука об руку. Два человека, два одиноких человека…
Чиновник
Стоял ясный сентябрьский день. Дачники тащили в серых затасканных рюкзаках картошку и яблоки со своих земельных участков. Веселые дети прыгали у детских «городков», позабыв о школе, побросав новенькие портфели в пока еще зеленую траву. Молодые парочки прогуливались под ручку привлеченные солнцем и теплом, быть может, последним теплом в уходящем лете. Тут же и молодые родители, замученные двумя-тремя горластыми отпрысками плелись с колясками, усталые, бледные и видно было, что они уже не раз пожалели о своем решении стать папами и мамами, но сладкие обещания президента страны дать за каждого малыша столько-то сот тысяч рублей прозвучали так заманчиво! На таких оглядывались прохожие:
– Глупые какие! – шептали прожженные прохожие, – Вначале задумались бы, сколько будет стоить дитятю выкормить, обуть, одеть, а детский сад, а школа?! А после надеялись уж на обещания президента, обещанного три года ждут!
Чиновник работал специалистом по детским вопросам и потому не мог видеть многодетных родителей, они одолевали его просьбами о помощи. Они толпами набегали в его кабинет и, просовывая в щель двери своих визжащих детей, требовали от него действий.
Он и действовал, с утра пораньше убегал как можно дальше прочь от своего кабинета, от таблички с приемом в такие-то дни, в такие-то часы.
На улице он чувствовал себя увереннее. Неестественно прямой шагал, запрокинув голову кверху, не обращая внимания на дорогу, и делал такие махательные движения руками, что казалось, вот-вот кого-нибудь зашибет. Прохожие, проявляя чудеса проворства уворачивались от него. Целый вихрь гневных криков несся ему вслед, но он не обращал ни на кого внимания, а увлеченный своими мыслями шагал себе вперед.
Чиновник был странным человеком. Без остатка, с невероятной горячностью бросался он в омут общественной деятельности. Носился без устали по городу поражая современников своею деловитостью, а между тем звонка от него безуспешно ожидала очередная жертва его пылкой натуры, которую он осаждал, добивался порой целый год.
Охмурял он женщин всегда одинаково, использовал свой высокий статус чиновника, официальное лицо которого частенько мелькало в новостях по телевизору.
Но никогда не приглашал свою избранницу на свидания, никогда никуда не водил. Этому способствовала его скупердяйская натура, он потому и курить бросил. Бывало раньше, у него просили закурить, а просили довольно часто, в России вообще принято «стрелять» сигаретку. Так вот, когда у него просили закурить, он мучительно содрогаясь съеживался, лез в карман пиджака за старым потрепанным, но тем не менее серебряным портсигаром и, приоткрывая крышку доставал оттуда двумя пальцами сигаретку, но с каким видом он ее отдавал просителю! Будто не одну-единственную сигарету давал, а по крайней мере целый кусок золота…
Женщин он приглашал к себе домой. Как правило, гостья застревала на пороге квартиры, смущенно оглядываясь. Она стеснялась огромадных, в человеческий рост часов с боем, отбивавших время так неторопливо, так задумчиво, с таким дребезжанием, что хотелось на последнем ударе либо заснуть и никогда больше уже не проснуться, либо подбежать и заорать не своим голосом на часы:
– Ну, бейте же быстрее!
А после истерически расхохотаться, повалившись на роскошный ковер с восточным рисунком.
Гостью смущал широкий экран плазменного телевизора и дорогой ноутбук небрежно брошенный на журнальный столик. Смущали ее картины, походившие на творения Пикассо. Все они, аляповатые и непонятные являлись подарками знакомого художника, клиента дурдома, впрочем, чиновник картинами очень гордился, в России принято восхищаться делами больных на всю голову людей – это бывает даже модно!
Смущала гостью и белая мебель, и пузатый комод с позолоченными ручками. Она также боялась легких атласных занавесей подобранных кверху, боялась розового, дорогого тюля. Роскошь и богатство глядели на пришедшую со всех сторон.
Чиновник готовил сам. Сам накрывал стол к обеду, не позволяя гостье вмешиваться в процесс готовки, предпочитая собственную стряпню любой другой. Он был брезглив.
Торопясь, он крутился от электрической плиты, где кипели кастрюли и шкворчали сковородки, к холодильнику и раковине.
Постепенно на столе появлялись: изящная голубая салатница с летним салатом и крупно нарезанными помидорами; две глубокие суповые тарелки полные рыбного или куриного супа; тарелки со сливами и тарелка с нарезанным зеленым луком. Еще влезала на стол тарелка с горой толсто нарубленных кусков зернового хлеба. К обеду предполагалось подать жареные котлеты с картошкой, вареные яйца и зеленый чай.
Гостья смотрела с ужасом, как правило, чиновник выбирал для себя женщин худеньких, бледненьких, судя по одежде бедненьких. Он любил, чтобы им восхищались… Но такие женщины привыкли к ограничениям в своей жизни посвящая всю себя единственному ребенку, забывая о себе. Такие женщины питаются крайне скудно, много работают и целеустремленным вихрем проносятся мимо отдыха на юге, мимо всего, что может позволить себе, к примеру, женщина-вамп. Хищниц чиновник недолюбливал. Он сразу же заявлял гостье, что жениться не намерен, но в свою очередь сделает все от него зависящее, дабы она не забеременела от него.
Гостья хлопала ресницами, не зная, что сказать на такое откровение…
У него было два способа избавления от женщин. Первый, это когда особо тупая звонила ему каждый день. Он, тогда сильно свирепея, спрашивал у нее, а знает ли она, сколько ему лет? И сам же отвечал, что за шестьдесят! Понимаешь? За шестьдесят! Орал он.
Второй, это когда добившись согласия, встретившись с женщиной пару раз, он задвигал ее на задворки своей «бешеной» жизни и только отговаривался по телефону, что дескать очень, ой как очень занят и подожди немножечко, вот-вот освобожусь!
Она и ждала, надеялась, ничего не понимая. А он, все реже, реже звонил, а ежели и звонил, то говорил с ней исключительно официально-деловым тоном, создавая вид невероятно загруженного человека. Бедная женщина терялась в догадках, время шло, проходили месяцы, превращаясь в полгода, а после и в годы.