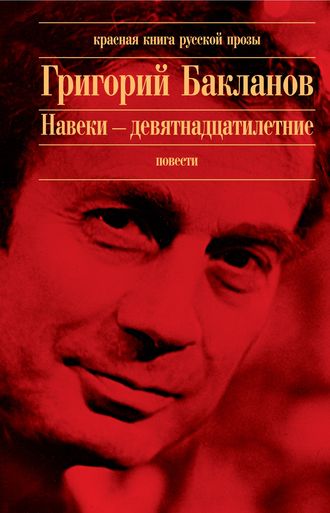
Полная версия
Июль 41 года
И, положа руку на сердце, выслушав себя с закрытыми глазами, капитан отрицательно покачал головой:
– Нет, товарищи! Не всегда! Вот среди нас сидит полковник…
Тут он впервые поднял голову и посмотрел в зал. И Щербатов увидел его глаза, глаза своего подчиненного, столько раз опускавшиеся перед ним. Сейчас это были глаза человека, для которого уже нет запретного, который переступил и не остановится ни перед чем. Взгляд их, подымаясь, прошел по рядам.
– …Вон там в углу сидит полковник Масенко.
И весь зал обернулся туда, куда указал палец с трибуны, и каждый, кто знал Масенко и кто не знал его в лицо, сразу увидел его: белый, пригвожденный, сидел он, чем-то незримым сразу отделившись ото всех.
– А ведь вы неискренни перед партией, товарищ Масенко! Я бы на вашем месте вышел сюда, – в тишине раздался четкий стук костяшек пальцев по доске трибуны, – и рассказал присутствующим коммунистам… В двадцать седьмом году, помните, вы присутствовали на собрании троцкистов? Зачем скрывать от нас такой факт своей биографии?..
А по проходу уже шел, почти бежал пожилой полковник Масенко, рукой тянулся к президиуму, делал негодующие, отрицательные жесты. После смертной бледности кровь кинулась ему в лицо, его прошиб пот, он шел, утираясь, задыхающийся, всем своим видом подтверждая только что прозвучавшее обвинение. Перед ним отводили глаза.
– Я скажу… скажу! – кричал он еще снизу. Споткнувшись от поспешности на ступеньках, едва не упав, он взобрался на трибуну, где еще стоял капитан: – Я скажу-у!
Но в зале нарастал шум. То, что чувствовал каждый сейчас, Щербатов чувствовал в себе. Подумать, Масенко… Приятный скромный человек с боевой биографией. Троцкист!.. Вот уж невозможно было предположить. День, час назад спросили бы Щербатова, и он поручился бы за него. Ай-я-яй!..
А Масенко на трибуне непримиримо, угрожающе тряс щеками, и постепенно из-за общего шума стал все-таки слышен его голос:
– Я был. Да. Я был послан… Я по заданию партии… А вы, голубчик… Вы как же? Вы почему меня видели там? Как вы там были? И я еще скажу. Я сам хотел сказать… выйти. Я назову.
Щурясь с яркого света сцены в зал слепыми от волнения глазами, он кого-то искал и не мог разглядеть.
– Я назову…
Зал затих.
– Вот… вот, пожалуйста… Капитан Городецкий был тогда… посещал. Полковник Фомин.
Тишина была полной. И над этой тишиной, над головами все выше подымался трясущийся палец Масенко. Слепо щурясь, он выбирал кого-то еще.
– Вот… Сейчас… Вот…
И вдруг палец остановился на Щербатове. В ту долю секунды, пока поворачивался к нему зал, Щербатов успел пережить все. Он, ни в чем не замешанный, ни в чем не виноватый, со страшной ясностью ощутил вдруг, как вся его жизнь может быть зачеркнута крест-накрест, если палец остановится на нем. Надо было встать, сказать, но он сидел перед надвигавшимся, оцепенение сковало его. А потом вместе со всеми он обернулся на того, на кого, перенесясь, указал трясущийся палец Масенко.
Случай этот вскоре забылся, чтобы потом вспоминаться не раз. Щербатов шел домой после собрания с тяжестью в душе, но и с сознанием, которое в те дни укрепляло многих: ведь вот его же не обвиняют ни в чем таком. Если поискать внимательно, то все-таки в каждом отдельном случае что-то можно найти: либо прошлые связи, либо за границей был…
Дом, в котором жил Щербатов, был необычный. Он стоял в глубине квартала, многоквартирный, шестиэтажный, серый, со всех четырех сторон окружив собой двор, каких тоже немного было в их городе. В дальнейшем такими должны были стать все дворы. Зелень, качели и песочники для малышей, выровненные спортивные площадки для молодежи, обнесенные металлической сеткой. Зимой на них заливали два катка. И до позднего вечера на сверкающем льду под электрическими лампочками, протянутыми в воздухе, стремительно мчались на коньках раскрасневшиеся нарядные дети, и среди них – тайком проникшие сюда дети с соседних дворов.
Даже среди ночи к подъездам дома подкатывали машины: люди, жившие здесь, работали поздно. В большинстве своем это были ответственные работники, старые большевики, крупные военные, многие из них еще с дореволюционным партийным стажем. Сейчас тревога и ожидание опустились на этот дом. И уже не во всех его окнах по вечерам зажигался свет.
В одну из ночей пришли в их подъезд. Щербатов услышал, как остановился лифт, услышал топот многих ног на лестничной площадке, сдержанные голоса. В чью постучатся дверь? Напротив жил профессор-хирург. Щербатов быстро спрятал бумаги в ящик стола. Туда, где лежал пистолет. Теперь по ночам он перебирал бумаги. Готовился. Он не сегодня начал жизнь. Была революция, была гражданская война. Славные имена друзей, их письма, все это теперь могло стоить жизни.
Бесшумно вошла жена в халате поверх ночной рубашки. Так они сидели: он – в кресле, она – на краешке дивана, запахнув халатик на коленях, босые ноги в его домашних туфлях. Ждала молча – большие глаза на белом лице.
Позвонили к профессору. Дверь квартиры напротив, как мягкая спинка дивана, была обита дерматином для хорошей, спокойной жизни. За ее толстой обивкой умерли все звуки. Только перед утром звякнула цепочка и опять раздались шаги по лестнице. Ни плача, ни громкого голоса, словно негласно сговорились между собой и те, кому важно было, чтобы все это совершалось в тишине, и те, у кого крик рвался наружу. Только ниже, ниже по спирали лестницы затихавшие шаги многих ног.
Из подъезда они вышли тесной группой. Среди штатских плащей и фуражек – человек, который много лет был его соседом. Было еще темно, как ночью, и горел желтый фонарь над подъездом. По асфальту двора двинулись к черной, блестящей под дождем машине; сверху и машина и люди казались расплющенными на асфальте. На виду всего дома, от взглядов спасаясь, от позора, профессор, спеша, сам сунулся непокрытой головой вперед, в распахнутую для него пустоту черной машины. Хлопнула дверца – гулко отдалось в каменном колодце двора, в приниженной тишине.
Взревев мотором, машина скрылась, а на том месте, где стояла она под дождем, осталось сухое пятно на асфальте и трое дворников в белых, словно на праздник надетых, фартуках.
У жены вдруг начался озноб. Она легла на диван и под двумя одеялами не могла унять дрожь. Он грел в ладонях ее ледяные ступни, а перед глазами, смотревшими в одну точку, в темный угол, стояло одно и то же – как сосед его, профессор, непокрытой головой вперед сам сунулся в распахнутую дверцу машины, приниженно склонив шею. И было в этой приниженности такое что-то, чего Щербатов понять не мог. После не раз он видел, как невиновные вели себя виноватыми, но в тот момент это объяснение не шло на ум.
Они были всего лишь добрые соседи. Общая лестничная площадка не соединяла и не разделяла две семьи. Но дети их учились в одной школе, бегали друг к другу за уроками. И сознание, что там, за той дверью, двое детей, не давало покоя. Щербатов разговаривал с сыном и ловил себя на том, что думает о тех детях. За столом жена смотрела на сына – и вдруг глаза ее наполнялись слезами.
Однажды вечером, вернувшись домой раньше обычного, он застал соседку. Еще в передней жена шепотом предупредила, кто у них, и робко заглянула при этом ему в глаза. Щербатов вошел. Женщина поднялась ему навстречу, испуганно покраснев. Она знала, что, входя к ним в дом, она подвергает их опасности, и только в его отсутствие решилась зайти: с жены другой спрос, жена не работала. Щербатов почтительно поздоровался с нею. Она заторопилась уйти, но ее уговорили остаться. Она была причесана и одета особенно тщательно, и, понимая, что это могло показаться странным в ее положении, как бы предупреждая вопрос, сказала:
– Туда, в приемную, все стараются одеться прилично. Не богато, не вызывающе – прилично. Огромная очередь прилично одетых людей, старающихся произвести хорошее впечатление, а в окошке старичок отвечает всем одно и то же. Я никогда раньше представить не могла: там, в приемной, где все связаны одной судьбой, люди сторонятся друг друга. Как будто думают: «У них мужья действительно враги народа, но в отношении моего произошла ошибка, и это сейчас выяснится». Я встретила в очереди свою коллегу, врача нашей поликлиники – она отвернулась. Мы час стояли рядом, как незнакомые. Когда видишь там размеры всего… – она медленно покачала головой, глядя остановившимися глазами внутрь себя, во что-то ей одной видное. – Ничто не может помочь. Только случайность. Процент, в который кто-то попадет.
Уже встав и уходя, рассказала вдруг:
– Сегодня там девочка лет четырнадцати, такая, как моя Ира, принесла передачу сразу троим: матери, отцу и брату. Она приезжает откуда-то. Одна. От поезда до поезда. А окошко закрылось на перерыв на двадцать минут раньше. Кто что может сказать? И ей либо возвращаться обратно с передачей, либо сутки ждать на вокзале другого поезда. Она постучалась. Как мышка. Потом еще. И вдруг окно раскрылось, и через него рукой вот так он толкнул ее. В лицо. Так, что она упала на нас… Знаете, это только ребенок мог сделать. – У нее вдруг мурашки пошли по щекам. – Мы, взрослые, самое большее – можем заплакать. Она бросилась на это окно, как звереныш, она била в него кулаками, кричала: «За что вы меня ударили? За что? За что?..» И что-то случилось с людьми. Очередь начала гудеть. И вы не поверите, он выбежал из дверей и сам при всех принял у нее посылку… Он не нас испугался, он что-то сделал недозволенное ему. Все должно совершаться в тишине и иметь вид закона. А он нарушил что-то.
Больше соседка не заходила к ним. И вскоре уже передачи носила их старшая дочь, Ира. И ей, и отцу. Как та четырнадцатилетняя девочка, о которой она рассказывала.
ГЛАВА II
Среди тысяч сыновей, вместе составлявших 3-й стрелковый корпус генерала Щербатова, был лейтенант Андрей Щербатов, его сын. Не адъютант, не радист при штабе, не артиллерист – командир стрелкового взвода. Когда-то и сам Щербатов командовал стрелковым взводом, только лет ему было поменьше, чем сыну, едва-едва за семнадцать перевалило. Был он тогда уже ранен и снова уходил на фронт. И плакала мать, когда, казалось бы, радоваться ей и гордиться надо, видя его в ремнях и коже, с маузером на боку. Матерей начинаешь понимать, когда у тебя у самого уже растет сын, такой же дурак, как ты когда-то. Но он – твой сын, и мать отпустила его с тобой на войну.
Ночью Щербатов вызвал сына к себе. Он ждал его и думал о нем.
…Однажды Андрей прибежал из школы возбужденный. Это было время, когда ежедневно снимали одни портреты и вешали на их место другие, когда изымали книги и в учебниках зачеркивались фамилии. Андрей был в комитете комсомола, в гуще всех событий. В тот раз он прибежал после комсомольского собрания, на котором разбиралось дело его сверстницы, Иры, дочери соседей. У детей, как и у взрослых, существовал уже установившийся порядок: перед своими товарищами, перед классом она должна была на комсомольском собрании осудить своих родителей, врагов народа, отречься от них.
– Понимаешь, отец, – рассказывал Андрей, заново переживая, – мы ей говорим: «Тебя мы знаем, но им ты должна дать принципиальную оценку. Ты – комсомолка!» А она, как дура, стоит перед всеми и твердит свое: «Моя мама – честный человек. Она не может быть врагом народа. Даже когда папу арестовали, она мне все равно только хорошее говорила про товарища Сталина».
«Да ты пойми, говорим мы ей, они тебе всего не рассказывали». Объяснили ей, поняла, кажется, и – опять свое: «Моя мама – хороший человек». – «Значит, органы НКВД арестовывают невиновных, так по-твоему?»
Это говорил ему Андрей, сын, и лицо сына дышало искренним возбуждением. Щербатов спросил осторожно:
– А если б тебе сказали, что вот я, твой отец, – враг народа. И ты должен отречься от меня…
– При чем тут ты? – Андрей обиделся. – Как ты можешь так говорить? Ты в революцию воевал! А она сама созналась, что отец ее по месяцу не бывал дома, ездил в какие-то научные командировки. Научные!.. Может она знать, чем он там занимался? Ручаться имеет право? Два раза, оказывается, за границей был. Могли его там завербовать? Могли! Откуда она знает? Да если хочешь знать, у нас сегодня в школе у всех отобрали тетрадки с Вещим Олегом! Оказывается, если перевернуть тетрадку вниз головой, так из шпор получается фашистский знак. И другую тетрадку тоже отобрали. Где Пушкин. Там позади него – полки с книгами. Так из книг можно составить: «Гитлер»! Я сам проверял!..
Глаза Андрея блестели. Щербатов смотрел на него.
Андрей не знал прошлого. Не пережив сам, он знал его только в том виде, в котором оно существовало сейчас. Для Андрея, например, имена полководцев революции, ныне исчезнувших с позорным клеймом врагов народа, были просто именами. Для Щербатова это были живые люди, которых он знал, под чьим командованием сражался не в одном бою. Он помнил оборону Царицына несколько иначе, чем она излагалась теперь. Для Андрея же если не единственным, так величайшим полководцем революции был Сталин. И все планы разгрома белых, которые он изучал в школе, это были планы, предложенные Сталиным, которые потом Ленин одобрял. Он начал свою сознательную жизнь, когда единственным именем, вобравшим в себя всё, было имя Сталина. Оно было так же несомненно, как солнце на небе, которое он привык видеть ежедневно, как воздух, которым он дышал.
Поколебать эту веру? А с чем оставить его в душе? Слепая вера страшна, но страшно и безверие. Быть может, впервые в тот раз вдвоем с сыном, родным человеком, Щербатов чувствовал себя одиноким.
…Щербатов стоял у окна, когда Андрей подошел к штабу. Светила луна из-за черных зубцов сосен, и в свет ее по росе вышли двое. Щербатов сразу увидел Андрея. А с ним была женщина. В юбке, с пистолетиком на боку, в пилотке набок. И, конечно, завитая. Вся в кудряшках. И старше его. Во всяком случае, опытней. Сразу видно, а Андрей держал ее руку. Они стояли под луной на расстоянии друг от друга, и Андрей смеясь рассказывал что-то и был счастлив. Но оттого, что на них могли смотреть ординарцы от штаба, он держался с нею небрежно. Как будто они просто знакомые. Просто шли вместе. Но ревнивым отцовским глазом Щербатов сразу увидел, что не просто знакомые. И передернул плечами. Он испытал брезгливое чувство за сына. Дурак! Молодой и дурак! Цены себе не знает. Разве это нужно ему? В пилотке, с пистолетом…
Он отошел от окна, встретил сына, стоя посреди комнаты.
– Пришел? Здравствуй.
Щербатов подал руку, и сын с внезапно заблестевшими глазами стиснул ее изо всей силы. Рука отца была шире, ее неудобно было жать, Андрей даже заскрипел зубами от усилия. Мальчишка! Головки хромовых сапог его блестели росой, а голенища были седыми от пыли. Километров пять сейчас прошагал. От волос его, от гимнастерки пахло лесом, вечерним туманом – молодостью пахло.
– Сейчас будем обедать, – сказал Щербатов.
И тут в дверь вошел Бровальский.
– А-а!.. – сказал комиссар, увидев их вдвоем. И, дружески здороваясь с Андреем за руку, он улыбкой показал на него, словно бы представлял его Щербатову: «Каков!..»
– Ты здесь будешь? – спросил он погодя. – Так я поеду.
Это «ты» не было выражением полной душевной близости между ними. Это было скорее полагавшееся «ты». Иначе могло выглядеть со стороны, что командир и комиссар как бы не едины.
– Съезжу погляжу, как там и что, – сказал Бровальский небрежно, как о несущественном, улыбнулся и поднял брови. Он был уверен в совершенной необходимости своей поездки.
Сейчас, когда в ночи уже снялись войска и начали свое движение к переднему краю, все, что было в штабе, устремилось туда, и Сорокин, и Бровальский вот тоже, словно бы им неловко было друг перед другом не участвовать. Они мчались, чтобы дать выход охватившему их нетерпению, чтобы там, на дорогах, превратившись в сержантов и взводных, отменять чьи-то приказания и давать свои, которые потому только лучше, что исходят от вышестоящего начальства; чтобы требовать к себе внимания и тем самым еще больше увеличивать путаницу и неразбериху.
– Ну что ж, езжай, – сказал Щербатов и кивнул, как бы подтвердив необходимость поездки. И они остались с сыном вдвоем.
– Отец, – сказал Андрей, – это правда?
И умоляюще глянул на него своими правдивыми глазами, в которых не то что мысль, тень мысли была уже видна – мать глядела из этих глаз. Щербатов нахмурился, засовывая угол салфетки за воротник, кашлянул густо. Не потому нахмурился, что Андрей не имел права спрашивать его об этом: лейтенант, даже если он сын командира корпуса, – все равно лейтенант, тем только и отличающийся от других, что с него больший спрос; и не потому, что это была немужская черта – проявлять несдержанность, а потому, что ему не по себе стало под устремленным на него честным, спрашивающим взглядом сына. И он нахмурился. Андрей покраснел до выступивших слез. И все же не мог скрыть радости. Потому что это – правда. Потому что готовилось наступление. Отец не случайно вызвал его к себе. И когда вошел ординарец с бутылкой водки в полотенце – он охлаждал ее в ведре с колодезной водой, и с бутылки сейчас капало, – Андрей и на него взглянул счастливыми, еще влажными и оттого особенно сиявшими глазами.
Ординарец, усатый и немолодой, достаточно на своем веку потянувший лямку, понял эту радость по-своему: как не обрадуешься у отца за столом после солдатской-то каши на травке! Она и хороша, и полезна для солдата, пшенная каша, да плешь переедает. И, шевеля в улыбке усами, он с особенным, отцовским чувством, не заискивая, а единственно радуясь за Андрея, незаметно пододвигал ему что повкусней и налил ему полную, до краев стопку. Снизу Андрей благодарно улыбнулся ему. Он понимал, почему ординарец так на него смотрит. Это было выражением любви и уважения к его отцу. И, чокнувшись с отцом, Андрей поднял стопку, показывая ординарцу, что мысленно чокается с ним.
Они только сегодня узнали, сегодня поняли все, какой у него отец. А он всегда знал. Он не мог говорить этого, потому что отступали. Если бы знал отец, как больно, как тяжело было отступать! Не за себя. Что он, в конце концов! Тысячи лейтенантов таких, как он. Убьют – другого поставят, не худшего и не лучшего. Но отец… Как нестерпимо было ему, когда он, умней, талантливей, мужественней всех этих немецких генералов, и – отступает.
С первых сознательных дней он помнил холодок уважения, когда, осторожно приоткрывая дверь, сам ниже ручки, прокрадывался к отцу в кабинет. Черные клеенчатые (тогда они казались ему кожаными) кресла, крепкий запах табака, отцовская спина у стола в кресле и – тишина. Особенная тишина. А на стене сквозь дым блестело оружие. Отцовское оружие времен гражданской войны, которым он убивал врагов. Комбриг! Это его отец был комбриг. Потом начдив! Комкор! Как это звучало: «начдив»! Чапаев был начдив.
Самое счастливое время было, когда отец возвращался с маневров, из летних лагерей. Еще в коридоре он поднимал Андрея на руки, пропахший пылью походов, принеся ее с собою на плечах гимнастерки, на сапогах. Жесткая отцовская щека пахла махорочным дымом. А может быть, это пахло пороховым дымом или дымом ночных солдатских костров.
Все товарищи знали этот день, когда возвращался его отец. И они завидовали ему. А когда отца не было, он иногда тайком прокрадывался с ними в кабинет и там позволял им трогать на стене отцовское оружие. Только потрогать. Снять его оттуда он даже сам никогда не смел. И мальчишки, дотянувшись с дивана, трогали рукой, и металлический холод отгремевшего оружия заставлял вздрагивать от счастья их маленькие воробьиные сердца.
Все, что делал отец, было окружено в доме уважением. И то, как он выходил к столу, когда уже все за столом сидели, и особенно как он, закрывшись, часами работал в своем кабинете. На цыпочках проходя мимо двери, около которой всегда стоял в коридоре запах крепкого табака, Андрей слышал тишину и изредка в ней скрип пружин отцовского кресла. Это уважение и тишину в доме строго берегла мать. Особенно в последние годы. В эти годы уже взрослый Андрей, просыпаясь среди ночи, всегда слышал шаги в отцовском кабинете. Скрип, скрип, скрип… – из угла в угол сухо поскрипывали сапоги. И слышен был шепот матери. Днем она всегда была сдержанна, ровна, строга.
По целым ночам из-под двери кабинета светила в коридоре желтая полоса света и слышался шепот матери. Было это тревожно, хотелось не думать об этом. В эти предвоенные годы исчезли все лучшие товарищи отца. Андрей помнил их живыми. Веселые, сильные люди, смеясь, они сажали его к себе на колено, обтянутое синим диагоналевым или походным галифе – гоп! гоп! гоп! гоп! – и он подпрыгивал, словно на коне, счастливый и гордый. Они исчезали один за другим, вдруг, и отец по целым ночам ходил по кабинету из угла в угол, и по целым ночам светила из-под двери желтая полоса. Происходило что-то страшное, о чем в доме никогда не говорили с ним. Это нельзя было понять, можно было только не думать и верить. И Андрей верил, и основой его веры был отец.
Не в лётное, не в кавалерийское, не в танковое – он пошел в пехотное училище, идя дорогой своего отца. А когда началась война, он встретил ее вместе с отцом, под его командованием. И сейчас он снова гордился им. Он знал, отец не любит таких слов, он никогда не посмел бы их сказать ему. Он только поднял на него глаза, полные любви и гордости. Щербатов нахмурился.
– Отец! – сказал Андрей, а про себя подумал: «Черт! Водка, наверное». – Отец, если разрешаешь, налей еще одну.
Широкая рука Щербатова с бутылкой протянулась к нему. Она была рядом с ним, на весу. Отцовская рука. И Андрею за все, что она дала ему, за радость, которую он испытывал сейчас, вдруг захотелось поцеловать ее, широкую отцовскую руку. Но он сдержался.
Они говорили о матери: Щербатов только что получил от нее письмо, для себя и для сына. Андрей ел и читал письмо, держа его перед тарелкой. Чудачка мать…
– Знаешь, отец, у нас командир роты вот такой. По плечо мне. Он, когда приказывает, вздрагивает от своего голоса и становится на носки. И руки держит самоварчиком…
Андрей рассказывал и сам же смеялся, и половину слов из-за этого нельзя было разобрать. Это у него с детства. Когда-то Щербатов учил его, что нельзя смеяться первому: ты рассказываешь, дай посмеяться другим. Он учил его быть сдержанным. А может, не это главное?
– И понимаешь, вчера исчез вдруг боец. Говорят, местный. Не из моего взвода. Так наш командир роты…
Андрей вдруг спохватился, робко глянул на отца. Глаза были виноватые. Он забыл в этот момент, что отец его – командир корпуса, и, рассказывая так, он подводит своего товарища, командира роты. Щербатов сделал вид, что не слышал. Да, этому он тоже учил его. Он учил его, что заслуги отца – это еще не заслуги сына. Все, чего должен Андрей достигнуть в жизни, он должен достигнуть сам. Потому что не знал, будет ли и дальше у Андрея отец. А если это случится, ему будет трудней, чем многим его товарищам. Он не мог сказать Андрею, но готовил его к этому. Сын должен был выстоять. Выстоять и остаться человеком.
Он учил его быть честным. Многое менялось в жизни, многие люди менялись на глазах. Но есть вечные человеческие ценности. Среди них – честность. Честь. А вот сейчас ему хотелось сказать Андрею, чтобы тот пошел к нему адъютантом. Почему адъютантом у него должен быть чужой, а не его собственный сын? Отец и сын – в этой войне они должны быть вместе. Об этом просит в письме мать. Но даже ради матери он не мог этого предложить Андрею.
Щербатов смотрел, как ест сын, молодой, страшно голодный. Смотрел на его наклоненную голову, маленькое покрасневшее ухо, за которое когда-то в детстве трепал его. На плечи, уже налившиеся силой, – портупея врезалась в них.
– Стой, отец! – Андрей даже есть перестал, вспомнив, и шлепнул себя по лбу. – Вот бы забыл! Понимаешь, у меня во взводе боец есть. Оказывается, инженер московского завода. Страшно головастый мужик. Я даже не понимаю, зачем такого взяли на фронт? Глупо. Что от него пользы с винтовкой? Убьют, и только, а он инженер. Отец, можно что-нибудь сделать?
Щербатов только усмехнулся.
– Просто глупо, – сказал Андрей. – Был бы он летчик хотя бы. Вот слушай, что он придумал. Обыкновенный лук, почти как у индейцев, – Андрей засмеялся, как в детстве. – Мы пробовали. Берешь бутылку с зажигательной смесью и стреляешь. На пятьдесят метров бьет. И точно бьет. Рукой так не кинешь. Знаешь, как удобно из окопа по танкам бить?
Щербатов едва не вздрогнул. Те в танках, в броне, под прикрытием самолетов, а его сын с луком, как индеец, готовится бутылками стрелять в них. И он, отец, командир корпуса и генерал, учит вот таких мальчиков не бояться танков, подпускать их ближе, пол-литровыми бутылками поджигать их, учит смекалке. Неужели он виноват, что так случилось?
– Отец, – сказал Андрей, прощаясь, – я рад, что мы вместе. Знаешь, как я в детстве завидовал тебе! Ты прости, что я тебе так говорю, ты не любишь этого, но ты знай: за меня ты стыдиться не будешь.









