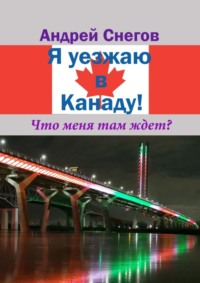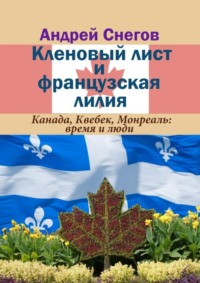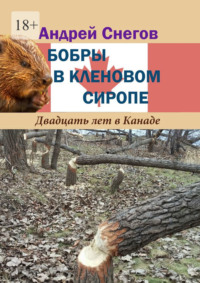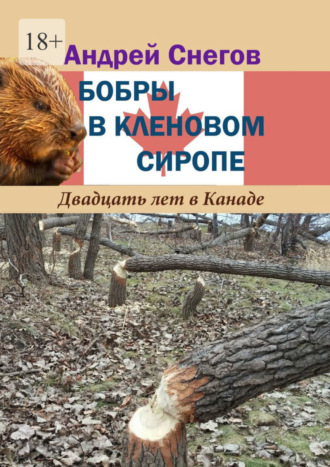
Полная версия
Бобры в кленовом сиропе. Двадцать лет в Канаде
Как это часто бывает, на путях технического прогресса, параллельно с официальной программой освоения космоса, идет и другая программа – любительская. Как сообщили еще в июне 2003 года канадские газеты, четверо друзей-инженеров из Калгари благополучно осуществили запуск созданной ими ракеты по конструкции, дублирующей французский метеорологический аппарат «Dauphin». Пятиметровая ракета диаметром в 54 см и весом в 136 кг достигла высоты примерно 1700 метров. Затем она, как и планировалось, разделилась на две части и пошла вниз. Спуск осуществлялся на парашютах, однако раскрылись только три из четырех, что, впрочем, не помешало ракете приземлиться вертикально, как и было задумано. Таким образом, восемь месяцев работы увенчались практически полным успехом.
Но с 2003 года много утекло воды. Сегодня, как известно, космические разработки перекочевали в большой степени в частные компании. Илон Маск (Space X) и Джефф Безос (Blue Origin) у всех на слуху, не считая еще более десятка европейских, американских и японских компаний. Но самое интересное, что практически во всех крупных и средних университетах Северной Америки, да и во многих университетах мира существуют студенческие группы, работающие над созданием ракет, способных подниматься на высоту 30 тысяч футов, то есть почти 10 километров, а затем спускаться на землю на парашюте. Проектирование и изготовление осуществляется в рамках учебного процесса на инженерных специальностях (наряду со множеством других проектов), а затем ракеты демонстрируются на ежегодных студенческих соревнованиях, в которых принимают участие команды из более 120 университетов США, Канады, Швецарии, Южной Кореи и других стран.
Пожалуй, было бы несправедливо не рассказать в этой главе еще об одном представителе канадской науки и технологии, который в поисках способов выхода в открытый космос пошел весьма нетрадиционным путем. Речь идет об инженере Джералде Булле (Gerald Bull), для широкой публики и по сей день остающемся практически неизвестным. До своей гибели в 1990 году он успел воплотить в жизнь немало оригинальных разработок, которые в конце концов его и погубили. Мистер Булл был весьма неординарной личностью, и именно эта неординарность заставила его встать на роковой путь – сначала разрыв с родной Канадой, затем американская тюрьма и, наконец, гибель от рук агентов израильских спецслужб. Начиналось же все достаточно обычно. Родился Булл в 1928 году в городке Норт Бэй (North Bay) в Онтарио, после смерти матери и ухода отца остался на попечении тетушки. Талантливый парень, школу он окончил с отличием, а в возрасте 23 лет получил докторскую степень в Университете Торонто (University of Toronto). Сразу же после этого он связался с Канадским департаментом по вооружениям и развитию исследований (Canadian Armament and Research Development Establishment) – центром мирового класса по исследованию вооружений, куда в предшествовавшие годы передавались из Британии все военные технологии с целью сохранения их подальше от рук германских нацистов.
После окончания Второй мировой войны Департамент активно занимался проблемами сверхзвуковой аэродинамики применительно к сверхзвуковым самолетам и ракетам. Сверхзвуковые аэродинамические трубы были дороги, но Булл предложил другой подход: вместо того, чтобы гонять со сверхзвуковой скоростью воздух вокруг модели, разогнать до такой скорости саму модель. Звучало утопично, но решение оказалось простым – модель, упакованная в деревянную оболочку, заряжалась в ствол пушки, после выстрела из которой оболочка отлетала, а сама модель продолжала свободный полет с требуемой скоростью. Модель снабжалась специальным устройством, которое и записывало во время испытания все требуемые параметры. На ранних этапах тестов с ракетами схема работала просто великолепно, но затем авиационные технологии, разработанные в Советском Союзе, резко вырвались вперед, и проект, став неконкурентоспособным, закрылся.
К тому времени Булл достиг достаточно высокого положения – несмотря на свою молодость (ему исполнился всего 31 год), он стал главой Отдела аэрофизики Департамента и фактически ведущим специалистом Канады по аэродинамике. Как истинный ученый, он питал неприязнь к чиновникам, и те платили ему взаимностью. Не очень стеснявшийся в выражениях во время публичных выступлений, вскоре он приобрел немалое количество недругов во властных структурах и через два года покинул пост главы Отдела, перейдя на профессорскую должность в университете МакГилла, а заодно занимаясь консультационной работой.
В 1961 году ему удалось убедить некоторых влиятельных людей в Вашингтоне о перспективности использования больших орудий, как для испытаний головных частей ракет при их выходе на орбиту, так и непосредственно в качестве средства регулярного вывода объектов в космос. Получив деньги от Пентагона и Министерства обороны Канады, Булл начал работу в университете МакГилла над проектом по изучению баллистики больших высот и орудий, носившим официальное название «Проект высотных исследований» (High Altitude Research Project, HARP). Он приобрел значительный участок земли на границе Квебека и американского штата Вермонт, где оборудовал испытательный полигон. Однако тестирование проходило в основном в аэродинамических трубах, так как для свободного полета пространства было недостаточно. Вскоре для проведения испытаний в свободном полете он купил землю на Барбадосе, откуда можно было запускать снаряды над Атлантикой, к востоку от острова. Здесь он установил старое корабельное орудие калибра 40 сантиметров, длина ствола которого составляла 20 метров, а вес – 125 тонн. Булл удлинил ствол до 36 метров и разработал рецептуру специального бездымного пороха. Модернизированное орудие могло выстреливать 180-килограммовые снаряды с начальной скоростью 3600 метров в секунду, что более чем в десять раз превышало скорость звука в воздухе и представляло собой третью космическую скорость. Удавалось достигать высоты 180 километров! И хотя подобная высота еще не была земной орбитой, а скорости в 3600 метров в секунду было недостаточно для вывода на орбиту объекта, испытания доказали, что в принципе это возможно. Цена же проекта, составившая десять миллионов американских долларов, не шла ни в какое сравнение с прожорливыми ракетными разработками.
Однако перейти к более серьезным испытаниям ему не дали. Недруги Булла в Оттаве обвинили его в необоснованном раздувании результатов экспериментов, несостоятельности идей, но, главное, в том, что весь проект служил лишь прикрытием военных изысканий Пентагона. Вьетнамская война, очень непопулярная среди канадцев, была в разгаре, и это бросало тень на все, где были замешаны американские военные. В результате финансирование проекта в 1967 году было заморожено, еще до того, как инженерам и ученым удалось вывести хотя бы один искусственный объект на околоземную орбиту. Булл стал «вольным художником», полностью перейдя на работу по заказам и консультации. Что интересно, по своим убеждениям он никогда не был милитаристом. Он не служил в армии, и даже своего личного оружия у него никогда не было. Он просто занимался тем, что ему нравилось больше всего.
Булл давал консультации всем подряд, но, когда он стал работать на Южную Африку, у него начались проблемы. Дело в том, что в то время – в середине 70-х – Южная Африка увязла в ангольской кампании. Коммунистическое правительство Анголы, при поддержке кубинских войск и советской артиллерии, наносило сокрушительные удары по южноафриканским войскам. Булл основал частную компанию «Корпорацию космических исследований Квебека» и при скрытой поддержке ЦРУ помог южноафриканцам разработать 155-миллиметровую гаубицу с дальностью стрельбы, на 50% превышавшей возможности всего, что только существовало в то время в мире. Он продал им стволы орудий и тысячи снарядов, с помощью которых в конце концов удалось остановить натиск ангольских войск. Однако с приходом к власти в США Картера Южная Африка потеряла американскую поддержку. Булл был арестован за нарушение оружейного эмбарго ООН и после обвинения в незаконной торговле оружием в 1980 году был приговорен к шести месяцам тюрьмы. Приговор сломил его. Он разрушил его репутацию, лишил исследовательской базы в Квебеке и развалил его собственную компанию. Булл уехал из Канады и поселился в Брюсселе. Живя в Бельгии, он не отказывался ни от какой работы и, в конце концов, связался с Китаем и Ираком.
Ирак в то время вел свою войну – с Ираном. Иракские власти закупили сотни гаубиц Булла у Южной Африки и Австрии. Оружие оказалось особенно разрушительным на равнинах приграничных районов между Ираком и Ираном, где невозможно было найти укрытия от смертоносных осколков. Это произвело настолько сильное впечатление на командование иракской армии, что они решили нанять ученого непосредственно.
И вот тут-то в центре внимания и оказалась суперпушка. Булл убедил работодателей, что единственным способом попасть в ряды сверхдержав для Ирака будет запуск своих собственных спутников. Израиль к тому времени уже проделал это. Суперпушка могла бы стать дешевым и впечатляющим средством запуска объектов на орбиту. Идеи известного фантаста начала XX века Жюля Верна оказались как никогда близки к реализации. Булл назвал проект «Вавилон» («Babylon»). В 1981 году правительство Ирака выделило Буллу 25 миллионов долларов, чтобы он мог начать работу по созданию космической пушки, с условием, что он продолжит работы по развитию традиционной артиллерии для армии Ирака.
Проект «Вавилон» включал в себя создание двух прототипов. Сначала предполагалось изготовить уменьшенный вариант суперпушки калибром 350 мм. В 1989 году этот прототип, получивший название «Крошка Вавилон» (Baby Babylon), с длиной ствола 45 метров, был установлен на склоне холма, и начались его испытания. Этот уменьшенный вариант орудия мог посылать снаряд на 750 километров.
Вторая версия суперпушки калибром 1000 мм под названием «Большой Вавилон» должна была иметь длину ствола 156 метров и один метр в диаметре. В казенной части толщина стенок ствола составила бы 30 сантиметров, а общий вес пушки должен был достичь 2100 тонн. Было решено смонтировать ее на склоне холма под углом 45 градусов. По расчетам Булла, используя девять тонн ракетного топлива, суперпушка «Большой Вавилон» могла послать 600-килограммовый снаряд на расстояние в тысячу километров, что позволило бы обстреливать Кувейт и Иран из глубины территории Ирака.
Из «космического» варианта такой пушки можно было бы отправить на орбиту 200-киллограмовый спутник с помощью снаряда, выполняющего роль ракеты-носителя и имеющего вес 2000 килограммов. Стоимость пуска составляла бы примерно 1727 долларов за килограмм в сегодняшних ценах. Для сравнения, запуск спутника с помощью традиционной ракеты в то время обходился в 22 тысячи долларов за килограмм.
Однако это была бы конструкция, которую вряд ли можно было бы легко перемещать с одного места на другое. Таким образом, один единственный авианалет мог бы легко вывести орудие из строя. А поскольку Израиль уже один раз бомбил иракский ядерный реактор в 1981 году, то не было никаких сомнений, что он проделал бы то же самое снова, если бы почувствовал хоть какую-то угрозу.
Булл ясно отдавал себе в этом отчет, поэтому вкратце проинформировал Моссад о сущности проекта. Он также поставил в известность британскую службу разведки МИ-8. Однако, памятуя о печальном опыте общения с Соединенными Штатами, в детали он не посвятил никого. Даже своей семье он почти ничего не рассказывал, полагая, что они не одобрят его действия.
В обмен на поддержку проекта суперпушки Ирак потребовал, чтобы Булл помог им в разработке многоступенчатой ракеты, которую они пытались собрать из компонентов реактивной системы СКАД, на что Булл был вынужден согласиться и проделал большую часть расчетов для ее головной части.
Это-то его и погубило. Хоть у Израиля и не было особых причин волноваться из-за суперпушки, иракские ракеты представляли для него реальную угрозу. По другой версии, Иран тоже был крайне заинтересован в прекращении этих работ. Булл получил несколько предупреждений. В его квартиру неоднократно вламывались, ничего при этом не забирая, но оставляя явные следы, демонстрируя, что в доме были незваные гости. В конце концов, в марте 1990 года Булл был убит возле своей квартиры пятью выстрелами в спину и затылок.
Лишившись своей главной движущей силы, проект «Вавилон» сразу же развалился. Слишком многие его детали Булл хранил исключительно у себя в голове. Спустя три недели после убийства британская таможня изъяла детали ствола пушки, изготовленные в Шеффилде некой иностранной компанией, которой поручили их производство под видом нефтехимических труб. Компания Булла немедленно закрылась, а ее служащие разбежались, кое-кто вернулся в Канаду.
Со смертью ученого иракский космический проект так и не вышел за рамки начальных испытаний, а Канада лишилась возможности стать лидером в воплощении мечты автора всемирно известного романа «Из пушки на Луну».
«О сколько нам открытий чудных…»
Поскольку в предыдущей главе зашла речь о научно-технических достижениях канадских инженеров, то я решил, что будет уместно рассказать читателю еще об одном уникальном инженерном проекте. А так как он не относится к теме космических исследований, то я выделил историю в отдельную главу. Речь идет об экспериментальном (и историческом) проекте, в котором Канада принимала участие совместно с Великобританией и США в годы Второй Мировой войны. Проекте настолько необычном, что его авторы дали ему название «Аввакум» (Habakuk) по имени ветхозаветного пророка, сказавшего: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните; ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам».
И действительно, трудно было бы поверить в эту историю, если бы она не была и в самом деле реальной.
Дело происходило в первой половине Второй Мировой войны. Как известно, в то время через Северную Атлантику пролегали пути морского снабжения из Канады и США в Великобританию и СССР, по которым непрерывным потоком шли десятки и сотни кораблей союзных государств с грузами, поставляемыми по ленд-лизу. Давалось это большой кровью, поскольку в середине Атлантики, вне досягаемости наземных самолетов, находился район, известный как Среднеатлантический разрыв или Аллея подводных лодок. Если возле берега конвои могли быть защищены с воздуха, то в открытом океане германские подлодки чувствовали себя вольготно. В результате в 1942 году союзные войска потеряли значительную часть своего торгового флота. Дальность действия авиации была недостаточной, а авианосцев для обеспечения более короткой дальности полета не хватало. Кроме того, в активной разработке находились планы по высадке союзнических войск в Европе, в процессе чего было высказано мнение, что для оказания помощи десантным войскам необходимы большие плавучие платформы.
Однако в 1942 году промышленность производило огромное количество танков, артиллерийских орудий, кораблей и самолетов, на что уходили все дефицитные материалы, и особенно сталь. Авианосцы, действительно, были очень нужны, но, к сожалению, все верфи и металлурги были заняты изготовлением кораблей, на что тратились все имевшиеся в наличии ресурсы.
Однако если бы союзники имели возможность обзавестись «плавучими аэродромами», то, по мнению Черчилля, «мы могли бы заправлять наши истребители в пределах досягаемости ими противника и, таким образом, усиливать нашу авиацию в нужном месте и в решающий момент». Когда он обсуждал эту проблему со своим помощником лордом Луи Маунтбэттеном (Louis Mountbatten), у них была в том числе и идея создавать плавающие аэродромы путем срезания верхних частей айсбергов, тем самым формируя палубы и зоны посадки. Немцы могли обстреливать, бомбить и торпедировать айсберг весь день без шансов потопить его. И что было лучше всего, так это то, что лед был «бесплатным».
Лорд Луи Маунтбэттен занимал должность начальника объединенных операций, и частью работы этого отдела была разработка технологий и оборудования для наступательных операций. И вот в один прекрасный день в кабинете лорда появился человек по имени Джеффри Пайк (Geoffrey Pyke).
Когда-то лондонская «Таймс» объявила Джеффри Пайка «одной из самых оригинальных, хотя и непризнанных фигур нынешнего века». Его карьера началась в 1914 году, когда он, будучи студентом Кембриджского университета, был принят на работу в качестве иностранного корреспондента и проник в военную Германию с помощью поддельного паспорта. В Германии Пайка арестовали как шпиона и поместили в концентрационный лагерь, откуда ему удалось бежать и вернуться в Британию, где со временем он занялся финансами и бизнесом. В 1920-х годах он, движимый заботой о качественном образования собственного сына, практически сумел заложить в Британии основы прогрессивного начального образования путем финансирования своей собственной школы, средства на которую получал, управляя фьючерсными рынками и контролируя четверть мировых поставок олова. В 1929 году Пайк потерпел финансовый крах, что не помешало ему в послевоенные годы проявить недюжинные организациионные таланты, участвуя в создании и развитии Национальной службы здравоохранения.
Во время Второй Мировой войны Пайк появился в кабинете начальника объединенных операций и уверенно заявил: «Я нужен вам, потому что я человек, который думает». А думал Пайк в тот момент о том, чтобы строить корабли изо льда. Идея казалась беспроигрышной: поскольку лед непотопляем, корабли из айсберга были бы неуязвимы для бомбовых и торпедных атак. Их также было бы легко чинить, так как воду следовало лишь заливать в емкости нужной формы и замораживать, тем самым восстанавливая целостность корабля. Тем более, что вокруг целые моря сырья для ремонта. Впрочем неясно, задумывался ли Пайк о том, что для замораживания морской воды нужна более низкая температура, чем для пресной. Но, как бы то ни было, изобретатель полагал, что обходились бы такие авианосцы дешево и их можно было бы «наморозить» большое количество.
Возможные размеры таких кораблей также впечатляли: они могли бы быть в длину до 4000 футов (1220 метров), ширину 600 футов (183 метра) и глубину 130 футов (40 метров). Пайк представлял себе корабли, огромные и прочные, как айсберги, с толшщиной бортов в десятки, а то и сотни метров, от которых снаряды и торпеды отскакивали бы, практически не причиняя кораблю никакого вреда. Кроме того, Пайк считал, что в бою ледяные корабли могли эффективно использовать свои бортовые холодильные системы, разбрызгивая переохлажденную воду на вражеские корабли, замораживая их люки, закупоривая оружие и замораживая несчастных моряков до смерти.
Идея Пайка была представлена Маунтбэттеном Черчиллю в декабре 1942 года и принята на ура. Однако существовала проблема, которую следовало решить. Лед был слишком хрупким и, прежде всего, он непредсказуем. Отлитый в балку, лед разрушается при нагрузках от 5 до 35 килограммов на квадратный сантиметр, и поэтому он не подходит для запланированного строительства. Пайк предположил, что добавление в лед какого-то строительного материала сможет решить проблему. В 1943 году бывший австрийский профессор физической химии, а в описываемое время профессор Бруклинского Политехнического Института, Герман Марк (Herman Mark) и его ассистент Вальтер Хохенштейн (Walter P. Hohenstein) обнаружили, что лед, изготовленный из смеси воды и древесного волокна, образует очень прочную структуру, практически такую же прочную как бетон. Механическая прочность замороженной суспензии, содержащей 14% древесной массы, достигает 70 килограммов на квадратный сантиметр. Пуля калибра 7.69 мм при выстреле в чистый лед проникает на глубину около 36 сантиметров. Выстреленная в смесь, она уйдет менее чем на половину этого расстояния, то есть столько же сколько и пуля, выпущенная в кирпичную кладку. В то же время замороженную суспензию можно легко формировать в блоки и затем обрабатывать их. Более того, полученный материал тает намного дольше, чем чистый лед, за счет более низкой теплопроводности частиц древесины.
Этот материал был назван в честь Пайка – пайкрет (Pykrete) и с ним стали работать как с потенциальным материалом для «ледяного авианосца». Были изготовлены чертежи судна водоизмещением 1.8 миллиона тонн. Подобный грузовой корабль на основе пайкрета мог бы заменить восемь грузовых судов класса «Либерти», однако мечта Пайка состояла в том, чтобы использовать их не в качестве грузовых кораблей, а в качестве авианосцев. Одним из больших недостатков авианосцев всегда было то, что их короткие посадочные поверхности и тесные складские помещения подходили лишь для небольших самолетов со складными крыльями и легкой броней. Но более тяжелые и эффективные истребители, такие как Спитфаер (Spitfire), не были приспособлены для авианосцев, а о бомбардировщиках и вовсе можно было не мечтать. Поэтому Пайк вознамерился построить ледяной гигант, назвав его, как мы уже знаем, «Аввакумом». Его экспериментальный «Аввакум», сложенный из 40-футовых глыб льда, должен был иметь длину 2000 футов (610 метров), ширину 300 футов (91 метр) и толщину стен 40 футов (12 метров), а на его площадях легко разместились бы 200 Спитфаеров. Для сравнения: в то время самым большим кораблем на плаву был океанский лайнер «Queen Mary», весивший 81 000 тонн, то есть в 22 раза меньше, чем «Аввакум».
Разработка проекта шла в обстановке строжайшей секретности одновременно в двух местах. Для производства пайкрета с целью его испытания и усовершенствования Пайк открыл в Лондоне большой мясной магазин с холодильными установками в подвале на Смитфилд-Маркет, недалеко от Собора Святого Павла. Его «продавцами» были замаскированные сотрудники британских спецслужб. Они работали в костюмах с подогревом за защитным экраном, сложенным из массивных замороженных туш.
В то же самое время шло строительство уменьшенной модели масштаба 1:50, которая была разработана для тестирования методов охлаждения и предотвращения таяния. Изначально предполагалось, что для достижения наилучших результатов судно должно было быть построено в Канаде или России, где заморозка может быть произведена естественным путем. В конечном итоге была выбрана Канада, считавшаяся идеальным местом для проведения крупномасштабных испытаний, поскольку зимние условия были необходимы для проверки концепции и методов строительства, в которых в качестве основного материала использовался лед. Кроме того, канадцы обладали богатым опытом в исследованиях физики льда. Официально разбота над проектом была поручена Национальному Совету по Исследованиям Канады (National Research Council of Canada – NRC), правительственной организации, занимающейся координацией и финансированием научных исследований.
В 1943 году в горах Альберты на озере Патриция Национального парка Джаспер началась подготовка к постройке 1000-тонной модели. Озеро Патриция было выбрано из-за хорошей вероятности холодной погоды, а удаленное местоположение обеспечивало секретность проекта. Для изготовления прототипа длиной 60 футов (18 метров), шириной 30 футов (9 метров) и массой 1100 тонн потребовалось 15 человек и два месяца работы. Заморозка проводилась с помощью двигателя мощностью в одну лошадиную силу. Чтобы сохранить секретность, прототип был замаскирован под лодочный ангар на берегу озера. Начальная стоимость постройки оценивалась в 700 тысяч фунтов стерлингов, однако выяснилось, что для решения проблемы текучести материала необходимо использовать дополнительные стальные элементы каркаса, а также изолирующий кожух, что подняло стоимость до двух с половиной миллионов фунтов.

Скалистые Горы Альберты очень популярны среди туристов
Летом 1943 года, когда модель была закончена, возникла необходимость привлечения к проекту американцев, поскольку они были бы необходимы для поставки большого количества стали для судна. До этого момента проект продвигался лишь при сотрудничестве англичан и канадцев. Так как Пайк горячо возражал против подобного шага, а также из-за его прошлых конфликтов с американцами в предыдущих проектах, он был исключен из проекта «Аввакум».
Для демонстрации идеи американцам в августе 1943 года Маунтбэттен привез блок пайкрета на секретное совещание руководителей штабов союзников в отеле «Замок Фронтенак» (Chateau Frontenac), в Квебек-сити. Намереваясь продемонстрировать собравшимся силу пайкрета, Маунтбэттен выложил на стол два блока материала. Сначала он выстрелил из револьвера в кусок обычного льда, который, как и ожидалось, разлетелся вдребезги. Затем он выстрелил в блок пайкрета, однако пуля не пробила блок, а срикошетила и продырявила штанину адмирала флота Эрнеста Кинга. К счастью, обошлось без травм. Тем не менее Маунтбэттен свою точку зрения доказал.
Вскоре Черчилль и Рузвельт пришли к соглашению о том, что необходимо построить самый большой в мире корабль Однако к тому времени уменьшенная модель судна уже позволила сделать вывод, что для полномасштабного образца (длиной 2000 футов, высотой 190 футов и весом 1,8 миллиона тонн) потребуется более 280 тысяч блоков пайкрета и более 8 тысяч человек в течение восьми месяцев. Совершенно неожиданно «бесплатный» лед перестал быть бесплатным. Более того, образец подтвердил предположения некоторых исследователей, что «ледяной авианосец» в полную величину будет стоить дороже и потребует гораздо большего станочного времени для механообработки, чем весь имеющийся флот обычных авианосцев. Позднее тогдашний президент NRC МакКензи сказал, что британские руководители проекта так боялись Премьер-министра Черчилля, что не решились сразу доложить ему о провале и придержали эту информацию до следующего визита канадцев в Британию.