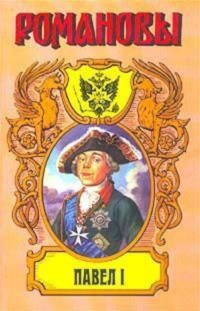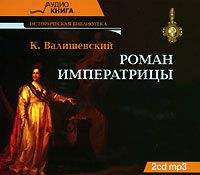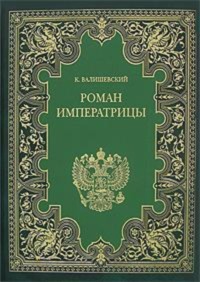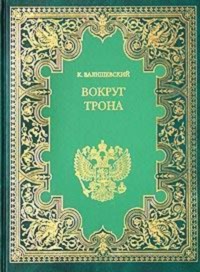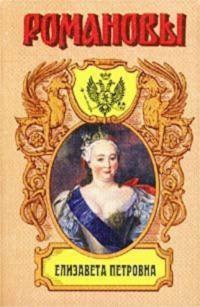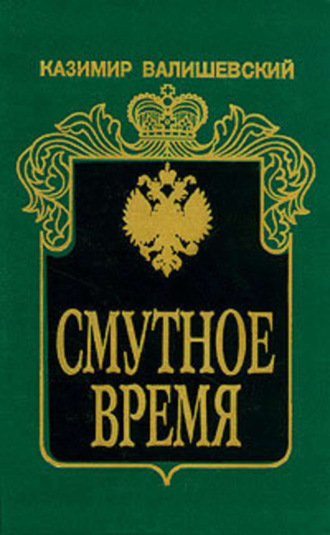 полная версия
полная версияПолная версия
Смутное время
Напрасно утверждали, будто мнения сенаторов Речи Посполитой разделились.[161] По двум существенным вопросам – о подлинности Дмитрия и о предполагаемом участии Польши в его предприятии – король почти единодушно, за исключением двух голосов, получил отрицательный отзыв. Кроме того, о том, что противного взгляда был краковский воевода Николай Зебржидовский, известно нам только из письма нунция Рангони, написанного позднее, в то время, когда этот вельможа, известный смутьян и будущий виновник междоусобной войны, мог присоединиться к делу, открыто защищаемому тогда иезуитами.[162] Судя по сохранившимся ответам сенаторов, только один из них склонен признать подлинность претендента, – это Гнезненский архиепископ, прелат Ян Тарновский. Да и то в его ответе заключается положение, которое в лице Плоцкого епископа Альберта Барановского находит себе красноречивого защитника: если бы, говорит он, царское происхождение претендента было признано, для сохранения мира надо отказаться от всякого участия в его деле, строго наблюдать за этим иностранцем и препятствовать его сношениям с казаками. Хотя не все сенаторы высказываются за полное воздержание, во всяком случае, такое мнение преобладает; к нему присоединяется и сам Гнезненский архиепископ; наиболее отважные предлагают только воспользоваться «Лжедмитрием», чтобы тревожить Годунова, и при особом мнении остается Ян Остророг, – он советует отправить претендента в Рим, определив ему определенную сумму на содержание. И все, наконец, окончательное решение этого вопроса предоставляют сейму или собранию сената в полном составе.[163]
Таков был голос разумной Польши, голос мудро понятого национального блага! – Нельзя, однако, не заметить, что те обстоятельства, при которых появился претендент, его положение протежируемого и будущего зятя Мнишека – что, без сомнения, было известно – оказали, конечно, некоторое влияние в таком почти полном и столь исключительном согласии мыслей и чувств.
В первых числах марта, вскоре после получения всех этих ответов, не предвещавших ничего хорошего, сандомирский воевода и протежируемый им юноша прибыли в Краков.
Юрий Мнишек был человек ловкий, и он доказал это, принимая как будто безучастно столь тяжелые для него вести. Ни в одной стране польская пословица: czapk(chlebem i sol(, ludzie ludzi niewol((низкопоклонством да хлебосольством люди заставляют служить себе других) не нашла себе лучшего применения. Отец Марины начал с того, что устроил пир для тех из своих сотоварищей по сенату, которые были тогда в Кракове. Манеры и представительная осанка Дмитрия произвели обаятельное впечатление; как нам известно, даже на Рангони, присутствовавшего на этом пиршестве, хотя и избегавшего явных сношений с претендентом, они произвели поразительное впечатление. Потчуя своих гостей лучшими венгерскими винами, гостеприимный хозяин не упускал случая замолвить словечко о том, что доводы в пользу претендента все умножаются. В свите царевича теперь было много знатных московских людей, и их раболепное отношение к нему служило ярким свидетельством его происхождения. К новым выборным, отправленным донскими казаками для предложения своих услуг, со всех сторон стекались добровольцы. Даже из Москвы, от весьма высокопоставленных лиц, претендент получал, как утверждали, письма, полные ободрений.[164]
Однако как ни убедительны были эти доводы, – а они, кажется, произвели некоторое впечатление, – они не достигли главной намеченной Мнишеком цели. Более или менее подготовленные к той мысли, что перед ними находится истинный царевич, гости воеводы не обнаружили особого расположения присоединиться к его делу; и можно было предугадать, что сейм проявит такое же нерасположение. Оставался король; понятно, что с этой стороны и покровитель и покровительствуемый могли ждать самого благоприятного отношения. Дмитрий выказывал решимость принять католичество. Ксендз Помаский и отец Анзеринус ручались в этом из Самбора, и нунций Рангони отправлял из Кракова в Рим все более и более радостные и уверенные послания. Подготовляя свое открытое выступление, иезуиты поощряли, без сомнения, своего духовного сына сейчас же воспользоваться этой неожиданной удачей, и Сигизмунд, убежденный или нет, склонялся к таким поступкам, которые ясно указывали на его еле скрытое желание приложить палец, а то и всю руку к одобренному предприятию. Он принимал и выслушивал московских беглецов, в числе которых были и пять братьев Хрипуновых; впрочем, роль этих, братьев крайне загадочна: в ту пору они поручились за подлинность царевича, а впоследствии, когда Дмитрий уже царствовал, они принуждены были обратиться к покровительству короля, чтобы получить разрешение вернуться в Московию, и при его великодушной поддержке получили там земельный надел.[165] Спустя несколько дней после пира, где все старания Мнишека оказались тщетными, Сигизмунд сделал более решительный шаг: 15 марта 1604 года претенденту была назначена аудиенция.
Это была победа, насколько можно было еще рассчитывать на победу в Польше. Речь Дмитрия, составленная в духе того времени кем-нибудь из поляков его свиты, наполнена многочисленными латинскими цитатами, риторическими фигурами и уподоблениями, в которых более или менее удачно приводились сходные случаи из истории и преданий. Ответ короля, выраженный устами вице-канцлера Тылицкого, в свою очередь, соображался с обстоятельствами. Связанный почти единодушным мнением сенаторов, Сигизмунд давал понять, что он не признает Дмитрия, не даст ему ни одного солдата и не нарушить перемирия, заключенного с Годуновым, – но он все позволить Мнишеку и тайно будет даже поддерживать предприятие. И действия, к тому же более красноречивые, чем затасканные и запутанные фразы Тылицкого, не замедлили ясно обнаружить намерения его государя.
Для начала, сейчас после аудиенции царевича осыпали подарками, назначили ему ежегодное содержание в 4000 флоринов, правда, из доходов Самборской экономии, – это едва ли особенно понравилось самому эконому. Кроме того, Сигизмунд даже принял на себя некоторую долю расходов для дальнейшего пребывания претендента в Кракове. Молва прибавляла, будто король заказал для будущего царя великолепный столовый сервиз с русскими гербами, и что он ежедневно видится с претендентом.
А в действительности все подарки государя были значительно скромней, и само собой разумеется, что он подносил их не даром. Чтобы проникнуть в резиденцию Его Величества – Вавель, и чтобы встретить там добрый прием, Дмитрий должен был заплатить форменными и весьма обременительными обязательствами. Он предлагал или соглашался отдать Польше половину земли Смоленской и часть Северской; заключить вечный союз между обоими государствами; разрешить свободный въезд иезуитов в Московию; дозволить строить католические церкви, и, наконец, обещал помочь королю вернуть шведский престол.[166]
Приходится сознаться, что, отдавая больше, чем он получал, Дмитрий заключал невыгодную сделку. Ведь, в этой стране Речи Посполитой попустительство, на которое дал свое согласие Сигизмунд, столь же мало значило, как и королевская власть. Он избавлял Мнишека от личных тревог, он мог подстрекнуть и еще нескольких искателей приключений, но, в сущности, вопреки желанию и первоначальному чаянию воеводы, дело не пошло дальше авантюры. Большое политическое и военное предприятие, для которого он искал поддержки Речи Посполитой или государя – одно время он льстил себя такой надеждой – окончательно рушилось.
Да, Дмитрий давал слишком много. Но обещания ничего не стоят тому, кто не намерен их сдержать; и, здраво рассуждая, невозможно приписать такой невероятной наивности Сигизмунду и его советчикам, уверенности, что он сдержит свое обещание, когда у него явится желание и он получит власть исполнить то, что теперь обещал. Для московского царя это равнялось бы самоуничтожению! Весьма вероятно, что этот необычайный договор, тотчас же спрятанный королем в шкатулку, ключ от которой хранился у него, был в глазах Сигизмунда только залогом, бумажкой, которую можно будет использовать впоследствии, при более серьезных сношениях, как средство прижать.
Заодно с королем и Рангони иезуиты, со своей стороны, старались получить от царевича более реальную и более непосредственную заручку. Дмитрий был уже, по тайности, соучастником Польши в проекте расчленить его отечество; он согласился еще изменить своей национальной вере и тайно принять католичество.
V. Обращение в католичествоОб этом обращении нам повествуют писатели, лучше меня осведомленные для подобного труда; и, без сомнения, с моей стороны было бы неразумно делать какие-либо поправки,[167] хотя в некоторых подробностях проницательность этих историков пострадала, думается мне, от воображения некоторых набожных летописцев. Я не решился бы сказать, что в ту минуту, когда Дмитрий произносил перед отцом Гаспаром Савицким свое отречение, он действительно обнаружил ту жестокую борьбу, которая происходила в его душе, suspensus animo aliquantum mansit (порой он впадал в забытье); или, что впоследствии, за невозможностью поцеловать папскую туфлю, он пал ниц и сделал вид, что воздает ту же почесть башмаку Рангони. Во всяком случае, я склонен предполагать, что все произошло гораздо проще, и что, принимая активное участие в этой комедии, ни о. Савицкий – человек весьма догадливый, ни сам нунций, а тем менее Зебржидовский ни на одну минуту не дали обмануть себя. Ведь, конечно, это была комедия, и что бы ни думали и ни говорили впоследствии, но само иезуитское общество в ту пору не могло явно не признаться в этом.[168] Чтобы убедить нас в противном, указывали даже на нежное чувство Дмитрия к Марине, которое якобы побуждало его принять веру любимой женщины. Действительно, такое желание можно было бы предполагать в нем во время его первого пребывания в Самборе, в горячем порыве его зарождающейся страсти. Но в Кракове, в переговорах об этом решительном акте, он обнаружил слишком много хладнокровия и искусства; он слишком умно изворачивался среди всех двусмысленных возражений и лукавых умалчиваний, чтобы можно было допустить, что им в этом случае руководит амур с завязанными глазами и пламенеющими стрелами.
Тем не менее, 24 апреля 1604 года он, действительно, написал папе Клименту VIII пресловутое письмо, которому суждено было спокойно лежать в архиве Римского Инквизиционного Суда, подобно тому, как Вавельский договор лежал в королевской шкатулке. Он называл себя «самой жалкой овечкой», «покорным слугою» Его Святейшества; он отрекался от «заблуждения греков», признавал непорочность догматов веры «истинной Церкви» и, наконец, целовал ноги Его Святейшества, как «ноги самого Христа», и исповедывал полную покорность и подчинение «верховному пастырю и отцу всего христианства». В то же время, хотя он и рад был, что нашел вечное царство, более прекрасное, чем то, которое у него так несправедливо похитили, и выражал готовность, – если такова будет воля Провидения, – отказаться от престола своих предков, он допускал также, что Всевышний мог избрать его проповедником истинной веры, дабы обратить заблудшие души и возвратить в лоно католической церкви великую и набожную нацию.
Польский текст подлинника этого письма составляет часть той загадки, которую мы обсуждали выше. Среди всех высказываемых по этому поводу предположений наиболее вероятным представляется мне то, которое допускает, что, употребляя этот язык, Дмитрий особенно старался подтвердить искренность своего обращения. И теперь еще поляки и католичество нераздельны в Русской земле. А претендент, действительно, имел основание использовать перед Святейшим Отцом все средства убедить его. За одну только нравственную поддержку он уступал Сигизмунду часть наследия своих предков и обещал свое содействие против Швеции; от Рима он ждал более действительной помощи. Папа не задумываясь давал субсидию Баторию для столь сомнительного завоевания Москвы; неужели он будет менее великодушен к законному наследнику Ивана IV, когда будущий царь, добиваясь возврата своего государства, кладет его к ногам папы?
Увы! Климент VIII сделал то же, что сделал Сигизмунд. Подтверждаемое столь убедительным посланием обращение претендента было принято в Риме с радостью, и папа написал на полях письма: Ne ringratiamo Dio grandamente… (Возблагодарим премного Бога за это…) И иезуиты получили всякие полномочия использовать в религиозном отношении таким образом достигнутый успех; что же касается политической стороны этого дела, папа оказался, наоборот, крайне осторожным. Он соглашался не видеть более в Дмитрии другого португальского короля-самозванца, он не задумался ответить на его послание, называя его «дорогим сыном» и «благородным господином», – но вот и все. А при отсутствии малейшего указания, которое позволяло бы претенденту надеяться на более существенное доброжелательство, выражение «благородный господин» должно было показаться ему почти оскорбительным.
Такое поведение папы объяснить нетрудно. В действительности, тайное обращение Дмитрия в католичество не представляло сколько-нибудь надежной поруки: оно так же мало значило, как и поддержка, тайком обещанная королем новообращенному. Давая новый залог, Дмитрий только налагал на себя обязательства; но он тщательно скрывал свое отречение от находившихся в его свите москвитян и заранее требовал разрешения в день своего венчания на царство приобщиться святых тайн по православному обряду. Это было точное подобие той равно подозрительной игры, которой предавался Сигизмунд, скрывая от своих сенаторов свои безмолвные обязательства по отношению к претенденту. И с той и с другой стороны эта игра затянулась. В указах, обращенных к малым сеймикам, король отклонял от себя всякую ответственность по этому вопросу. В январе 1605 года собрался сейм; депутаты превзошли даже сенаторов, явно выражая свое враждебное отношение к делу претендента; Замойский, насмехаясь над «этой комедией Плавта либо Теренция», осуждал предприятие с точки зрения морали и рассудка; сам Лев Сапега изменил своим сторонникам и присоединился к общему мнению; король совсем отошел к сторонке.[169] Он едва осмелился воспользоваться своей властью, чтобы противопоставить свое veto тому постановлению сейма, которое слишком прямо метило в Мнишека и им навербованных сторонников дела претендента. Принятый громадным большинством, проект резолюции обвинял их в государственной измене, как нарушителей мирного договора, заключенного с дружественною державою, и требовал самых строгих мер возмездия. Король, оправдываясь уже сделанными разъяснениями и ранее обнародованными указами, отказался его санкционировать, – но принужден был ограничиться только этим. А если польское правительство стало в такое положение, как могло папское правительство осмелиться проявить больше уверенности или больше смелости? «Благородный господин» собирался выступить на завоевание Москвы с отрядами, набранными сандомирским воеводой, и с горстью казаков: далеко ему было до Батория!
Однако, при всем своем враждебном отношении, голосования сейма 1605 г. представляют одну многозначительную и довольно выгодную для претендента особенность: участники сейма неизменно называли его господарчиком. И напрасно приписывали этому термину презрительный смысл. Это только общеупотребительный польский перевод слова царевич, или, точнее, составленное на польский лад уменьшительное термина государь, которым еще и теперь величают в России монарха. Московский господарчик означало, просто, сын московского государя. В польском общественном мнении произошел поворот. И хотя Замойский, по другим причинам поссорившийся со своим государем, ненавидевший Мнишеков и к тому же совсем больной и чувствующий приближение конца, все еще упорствовал в своем презрительном скептицизме, большинство уступало очевидности; человек, которого король принимает у себя в Вавеле, и перед которым падает ниц все большее и большее число москвитян, не мог быть заурядным самозванцем. Но его дело по-прежнему не находило сочувствия в Польше. Напротив, Лев Сапега так заканчивает свою речь, которая верно передавала общее настроение:
«Если Дмитрий погибнет, его неуспех падает на нас; если же он восторжествует, мы не можем льстить себя надеждой, что по отношению к нам он будет более верен, чем мы были по отношению к Годунову».
Еще до того на сейме кое-кто высказывал такое мнение, что участие в походе претендента нескольких добровольцев, видимо, принадлежавших к числу самых неугомонных польских граждан, будет для республики истинным облегчением. Таким образом выяснялись отношения Дмитрия с Польшей и то участие, которое примет эта страна в его предприятии. Перед королевским veto резолюции сейма теряли законную силу, и Мнишек сохранял полную свободу действий; но, встречая всеобщее осуждение, политика Сигизмунда свелась к какому-то подобию неопределенного и ненадежного покровительства, беспрестанно отрицаемого. Литовский канцлер форменно уверял допущенного на сейм Постника-Огарева, что претендент не получит никакой помощи. Если – как это позволяли думать полученные в Кракове известия – «Лжедмитрий» проник уже в Московское государство, то, не опасаясь вмешательства Речи Посполитой, царь властен поступить с ним, как ему будет угодно; если же господарчик снова появится в Польше, он будет схвачен.[170]
Действительно, новообращенный выступил уже в свой изумительный поход, и мы последуем за ним.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Победа претендента
I. Дмитрий-женихИзвестив письмом папу о своем обращении в католичество, Дмитрий в тот же день покинул Краков. Очевидно, прежде чем решиться на этот шаг, он размышлял и боролся до самой последней минуты. Он последовал за Мнишеком в Самбор, чтобы опять повидаться там с Мариной и приготовиться к войне за ту корону, которую он обещал возложить на чело прекрасной польки. Теперь свадьба была решена. Но какое печальное положение этого жениха! В награду за все, что он уже сделал, и за то, что ему придется еще сделать, жених, отдавая себя всецело, получал любимую женщину только по исполнении некоторых условий. Да, она будет его женой, но сначала пусть станет он царем. Сандомирский воевода сохранял за собой право отказать и тогда в руке своей дочери. Но, без сомнения, этого у него и в мысли не было! Мнишеки великодушно соглашались разделить с претендентом все те блага, которые могло доставить затеянное им опасное предприятие, но они не намерены были брать на себя всю свою долю опасности. Марина была обещана только sub spe victoriae. Дмитрий, напротив, был связан ненарушимым обязательством и, кроме того, должен был заплатить наличными за то немногое, что ему давали, как он платил и за не менее сомнительные милости Сигизмунда. Ожидая лучшего, он платил одной и той же монетой.
Уже в феврале или в начале марта они свели счеты: особой грамотой Дмитрий уступал своему будущему тестю княжества Смоленское и Северское. Но той порой вмешался секретный договор, по которому польский король заявил притязание на львиную долю в тех же самых областях; не такой человек был Юрий Мнишек, чтобы удовольствоваться остатком, и грамоту пришлось переделать на новых основаниях. Будучи влюблен и не имея никаких средств, кроме тех, которые он находил в самом Самборе, Дмитрий не мог ни в чем отказать. Новой записью, скрепленной 24 мая 1604 года торжественной клятвой под страхом анафемы, он обещал:
I. Выдать на руки сандомирскому воеводе тотчас же по вступлении на престол миллион злотых на приданое Марине и на уплату старых и предстоящих впереди долговых обязательств ее отца.
II. Поднести невесте приличествующую ей часть драгоценностей и столового серебра из тех сокровищ, которые хранятся в Кремле.
III. Отправить, в то же время, к польскому королю посольство с целью испросить согласие Его Величества на предполагаемый брак.
IV. Отдать будущей царице в полное владение Великий Новгород и Псков. Марина получала в них все права верховной власти и право строить католические храмы, монастыри и школы; она сохраняла этот удел и в том случае, если бы осталась бездетной.
В Москве дочь сандомирского воеводы могла свободно исповедывать свою веру; к тому же Дмитрий обещал, как он обещал уже это и в Кракове, потрудиться в пользу обращения своих подданных в католичество. В том случае, если претендент не достигнет престола, за Мариной сохранялось право отвергнуть брачный союз или отложить его осуществление на другое время.[171]
Так отец выговорил долю своей дочери. Три недели спустя и, надо думать, после трудных переговоров он определил и свою. Сохраняя за собою в Смоленском и Северском княжествах ту часть, которая не была предоставлена королю, он обязал, на тех же потомственных правах, отдать ему взамен соседние области, равные по величине и по доходам тем, которые он потерял ради Сигизмунда.[172]
Да, бессовестно и беспощадно обирали «господарчика», расточавшего клятвенные обещания! И он не сопротивлялся. За эту цену нашлось войско, которое ему было необходимо, чтобы дерзнуть померяться с Годуновым. Из Брагина и Лубен центральный сборный пункт перешел теперь в Самбор, а затем во Львов (Лемберг). Предполагали, что по этому поводу между Вишневецкими и Мнишеками возникла зависть. Первый покровитель Дмитрия, Адам Вишневецкий, мог почувствовать некоторое неудовольствие, видя, что его протеже как-то ускользнул из его рук. Может быть также, он не совсем одобрял поведение, избранное Мнишеком, чтобы склонить к делу и Краков. И в самом деле, только его двоюродный брат Константин сопровождал туда Дмитрия. Впоследствии, однако, оба кастеляна, брагинский и лубенский, по-видимому, участвовали в военных приготовлениях претендента, а после его победы возле него собралась опять вся семья.
II. Военные приготовленияГеографическое положение новой главной квартиры, выбранной для организации предполагаемого похода, столько же и даже более чем активное содействие сандомирского воеводы, действительно, могло изменить как характер, так и состав тех сил, с которыми собирались предпринять его. Этот пункт был в самом сердце Польши, и, следовательно, можно уже было выступить в поход с войском, не похожим на тот сброд казаков и татар, которыми располагали обыкновенно Вишневецкие для своих мелких пограничных войн. Только с точки зрения численности донское и приднепровское казачество должно было все еще составлять главный контингент собранного претендентом войска. Казаки всех украйн, этот продукт тройного смешения русской эмиграции, польских идей свободы и западных идей рыцарства, были историческим явлением, тесно связанным с самим появлением истинного Дмитрия либо Лжедмитрия. Как я уже указывал, в начале своего поприща предполагаемый сын Грозного шел только по следам целого ряда молдаво-валахских претендентов. Время от времени они появлялись в соседних степях и звали себе на помощь то буйное воинство, которое здесь всегда было готово для смелых набегов. Так, с помощью войска, набранного в этом крае польским дворянином Альбертом Ласким, в 1561 году, после долгих скитаний по разным странам Европы, сыну какого-то рыбака, выдававшему себя за племянника самосского деспота Гераклия, удалось изгнать молдавского господаря Александра и на короткое время захватить его престол. Тринадцать лет спустя казацкий гетман Свирговский также помогал другому претенденту – Ивоне, назвавшемуся сыном господаря Молдавии Стефана VII.
Покровительствуемый Ласким, авантюрист после своих успехов погубил себя желанием жениться на дочери другого польского магната. Итак, более честолюбивое и более смелое предприятие Дмитрия, до романтического элемента включительно, очевидно, было только повторением этих беспрерывных попыток. К этой же пор относятся первые казацкие восстания против польского правительства и польской шляхты; различными средствами – либо военной организацией, либо прикреплением к земле – правительство и шляхта преследовали одну цель: приспособить эту недисциплинированную и буйную силу к нормальным условиям современной жизни в гражданском обществе. Начиная с 1692 года, принимая то политический, то социальный, то религиозный характер, эти восстания все учащались под предводительством таких случайных главарей, как польский шляхтич Христофор Косинский, или малорусских крестьян, как Григорий Лобода и Северин Наливайко; восстания эти требовали для своего подавления все большего и большего напряжения; сначала достаточно было кавалерии польских шляхтичей, собранной Константином Острожским, затем уже польское войско, под предводительством двух наиболее знаменитых полководцев, Замойского и Жолкевского, встретило в них трудную задачу, и наконец на сторону бунтовщиков перешел и сам князь Острожский, раздраженный Брестской унией.
В то же время происходит новое явление: казачество расширяет свои силы; в самой Польше оно пытается привлечь в свои ряды ту часть героической и пылкой шляхты, которую опьянило и развратило злоупотребление свободой, которую сознание собственной силы делало непокорной какой-либо дисциплине, а страсть к приключениям толкала к самым отчаянным и безрассудным предприятиям; мы увидим некоторых из них под знаменами Дмитрия; это были люди дикой энергии, неукротимой отваги, отменные воины, порочные и развращающиеся от сношений с казацкими ватагами, но сохранявшие лучшие военные доблести. Иные из них, как Ян Сапега, князь Рожинский или Заруцкий, вступив вместе с претендентом в Московию, попытаются приобрести тут более чем только некоторую часть добычи. Подобно героям азиатских эпопей, воспроизведенных одним английским романистом, они тоже захотят быть царями. Сражаясь за этот призрак, одни найдут славную смерть, а другие, отброшенные в Польшу, ценой междоусобной войны еще и здесь будут преследовать свою упорную мечту и кончат свою жизнь во Львове на колу, как господин Карвач-Карвацкий, удивительную и печальную судьбу которого недавно описал один польский историк с французской фамилией.[173]