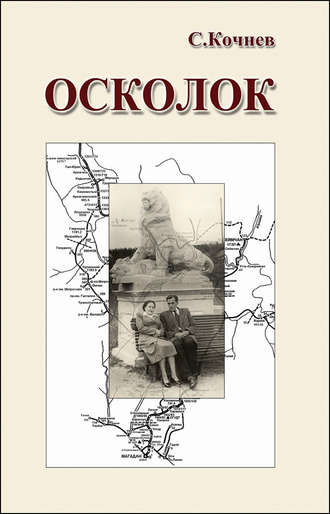
Полная версия
Осколок
– Вот на этом повороте Жора Шульц на бензовозе горел. – Василий три раза надавил на клаксон, – Видишь, кругом одна поросль молодая… только чёрные палки вместо деревьев.
Склоны сопок, сколько хватало глаз, были прочерчены тонкими чёрными черточками трупиков сгоревших лиственниц.
– Ну и чего ты радуешься, чего салютуешь? Друг сгорел, а ты…
– Та ни. Не сгорел он, успел выпрыгнуть на ходу. Я салютую тому, что он жив остался и людей спас. У бензовоза его отказали тормоза, и машина стала задком съезжать под откос. А Шульц не растерялся, начал скорость переключать потихоньку, пока до низшей передачи не добрался и машину нацелил на вон тот валун, видишь? Когда пара метров оставалась, он выпрыгнул из кабины и в кювете залёг. Бензовоз задком в валун ткнулся, но не взорвался, а сначала загорелся. Шульц, понимая, что взрыв всё равно будет, из кювета выскочил и вверх по трассе побежал. Пробежал с полкилометра, наломал каких-то веток и на трассе навалил, прямо по середине, и сверху телогрейку бросил, получился как бы знак, предупреждение. Потом обратно по трассе побежал. А машина уже во всю полыхает, вот-вот рванёт. Он тогда прямо вниз с обрыва сиганул, а тут метров семь. Всю задницу изодрал… Потом ещё ниже пробежал и такой же знак соорудил из веток и рубашкой своей прикрыл. Взрыва всё нет, он вверх, к машине побежал. И мимо машины пробежал, и за поворот успел скрыться, тогда и ухнуло. Бензин горящий весь вниз полетел и по сторонам, метров на триста. Тайга потом дня три горела, пока дожди не залили. Но главное, никто не пострадал. Машины, что сзади подъезжали, на шульцевом знаке тормозили, а те, что навстречу ехали, взрыв увидели километры за четыре.
– Наградили его?
– Шульца?
– Ну да, героя твоего.
– Угу. Три года поселения добавили… Только он не дожил, умер от заражения крови. Ай-яй-яй, здоровенный мужик был. Одной рукой снаряжённое колесо в кузов, как авоську с картошкой закидывал, сковырнул прыщик, когда брился… Такéе наше дéлечко… – Василий сокрушённо покачал головой.
– Ты, Жених, не болтай, а за дорогой смотри. – Сержант сглотнул тяжёлый комок, – Вообще, надо место найти остановиться, покурить.
Сумерки уже начинались, и сержант давно, часа два, не курил, соблюдая никому не нужные «меры безопасности». Последнюю остановку на перекур и перекус делали вообще в Оротукане, ели сухой паёк, чай варили.
– Сейчас, найдём тебе остановку, покуришь…
С полчаса ехали молча. Наконец Василий, выбрав более-менее ровное место, притормозил, остановил «Даймонд», аккуратно прижав к обочине.
– Хиба тебе треба курить, кури. – А сам вылез из кабинки и стал приседать.
Сержант тоже вылез и отошёл метров на двадцать-тридцать от машины, присел на камень, достал папиросы и с удовольствием затянулся дымом. Автомат лежал на коленях.
Удивительное дело, целая машина с прицепом, гружёная взрывчаткой, и только один автоматчик в сопровождающих? Всё дело в том, что аммонал, это взрывчатка, которую использовали в горном деле, а может и сейчас используют, абсолютно безопасен, если нет капсюля-детонатора. В то время аммоналом даже буржуйки топили вместо дров, горит он хорошо – долго, жарко. Три-четыре брикета – и тепло до утра.
Зато когда перевозили капсюли-детонаторы, чтобы взрывать этот безобидный аммонал, охраны давали чуть не роту: впереди виллис, сзади грузовик с автоматчиками, да в кабине, да в кузове ещё человека по четыре сажали.
На этот раз, вот он, один, сидит на придорожном камешке, потягивает папироску и не особо беспокоится, только автомат держит наготове, так, ради собственного успокоения.
Василий поприседал-поприседал, ногами подрыгал в разные стороны, чтобы кровь разогнать и, вытащив из-под сиденья свёрток с инструментами, полез зачем-то под машину. Сержант подошёл поближе, сплюнув догоревшую папироску в придорожную канаву, присел и стал внимательно наблюдать, что там «жених» под машиной копается.
Никакого внимания не обращая на сержанта, Василий выдавил в ему только известные места на днище картера густую смазку из гигантского шприца, подтянул две-три гайки и удовлетворённо вылез, протирая масляные руки мягкой тряпкой.
– Покурил? Давай ехать дальше.
Оба влезли в кабину и потихоньку двинулись, теперь уже на спуск, неотвратимо приближаясь к «чёртову блюдечку». До него, правда, добрались часа через два, когда совсем стемнело, и морозец за окном кабины градусов до семи опустился.
Тут надо современному читателю, привыкшему к бесконечному потоку машин, кое-что разъяснить. В то время (пред- и послевоенное) машин на колымской трассе было мало. Про легковые я вообще не говорю, их по пальцам на всей Колыме можно было пересчитать – в основном «паккарды» и «эмки» начальственные. Основной колымский транспорт, это были грузовики – полуторки, которые народ прозвал «Урал-дрова» за фанерную кабину, «Амо», «Мазы», «Яазы», да позднее по ленд-лизу полученные «Форды», «Доджи» и тягачи «Даймонды». Ездили они тяжело гружённые, а потому ездили медленно. Можно было проехать порой сотню километров и не встретить ни одной машины. Днём движение ещё как-то происходило, а вечером и ночью замирало. Шофёры боялись грабежей, и это было очень даже запросто. Тайга кишела мелкими бандами беглых зеков, в основном уголовников, и они хотели есть. Потому водители, чаще всего становившиеся жертвами этих банд, с наступлением сумерек старались заночевать в посёлках или вообще не выезжали на трассу до утра.
Василию бояться сегодня было нечего – конвоир с автоматом, это сила. А вот последний свой срок Василий получил именно из-за грабежа.
Вёз он как-то из Магадана на Спорный крепёж – винты, болты, гайки, шпильки – полный кузов ящиков. Подъезжал уже к самому Спорному, буквально километров пять оставалось. Сумерки вот такие же были, и в этих сумерках очень хорошо стали видны огоньки папирос за частоколом лиственниц вдоль обочины. Нехороший холодок образовался на душе, а тут ещё подъём начался, скорости особо не прибавить. Василий только подумать успел на газ надавить, а на подножки с двух сторон на полном ходу двое с ножичками – прыг! И ножички сразу к горлу: «Стой, сука!»
Василий резко тормозить не стал, остановился потихоньку.
– Хлеб давай, и всю еду, что везёшь.
– Хлеб вот, – Василий протянул завёрнутую в газету четвертину, – а больше ничего нету.
– А в кузове что, в ящиках, тушенка?
– Крепёж: болты, гайки.
– Врешь, сука. Жратву найдём, на ремни тебя порежем.
– Ищите.
Засвистали эти двое, что с ножичками, и из-за частокола лиственниц к машине человек двадцать рванули.
Выдохнул Василий испуг, вытащил одеяло и, согнувшись в три погибели, лёг на сиденье, упираясь затылком в одну дверцу, пятками – в другую. Долго лежал без сна, слыша, как шуруют зеки в кузове, вскрывая ящики, сбрасывая их на землю. Лежал и думал, как утром ему всё это добро придётся обратно в кузов забрасывать…
Проснулся оттого, что страшно замёрз. Открыл глаза, прислушался – тишина, только птицы в тайге орут. Выглянул из кабины направо-налево, никого. Завёл мотор, чтоб согреться, полежал ещё немного, потом вытащил рабочие рукавицы, запахнул телогрейку и выскочил из машины, готовый к трудовому подвигу. Как выскочил, так чуть не сел – ни ящика, ни обломка доски, ни винтика ни около машины, ни в кузове. Чисто, разве что не подметено.
Зачем зекам понадобился крепёж – кто ж знает, только машина была девственно пуста.
Удивился Василий страшно, в этом удивлении и на Спорный приехал и потом приговор выслушивал – десять лет поселения за то, что стратегический груз на сторону продал.
Такéе наше дéлечко. Да юсё, да юсё.
– Васятка! – позвала мама, – Васятка! Чому ж ты, пострел, сховался! Ну-ка, дуй молоко питии-и!
В чугунной голове прозвенели лопающиеся стеклянные доски и осколками засыпали глаза. Попробовал Василий разлепить их, но опять не смог. «Молоко же стынет! – пронеслось в мозгу и пропало в темноте, – Мамка зовёт, надо идти, а то отец рассердится, пороть будет…» Но никакой силой не заставить разлепиться глаза.
А голова звенит голосами: «Васятка! Молоко-о-о-о!», «Вставай, Жених, чего разлёгся?!»
– Кто жених? Я жених? Почему жених? Я – Васятка, меня мама зовёт!! – кричал Василий, но крика этого почему-то никто не слышал.
Правильно писатели великие писали – в самые страшные или предсмертные минуты проносится перед глазами вся жизнь. Со мной бывало такое, это когда я с высоты плашмя на землю рухнул. Не верите, спросите у певца малинного, он меня поднимал и в казарму тащил, это в армии было.
И у Василия перед глазами промелькнули и отец с матерью, и царь, и Кавун, и Махно, и много-много кто ещё. Вдруг ясно-ясно увидел он на мгновение себя маленького и голенького в скрипучей колыбели, подвешенной к небу, как к потолку, а потом сразу себя голого, лежащего в тесном вагончике на грязном полу у буржуйки.
В каменном мозгу смутные пятна постепенно стали складываться в какую-то картинку. А, вот оно что! Это машина, пробивая со страшным треском брёвна, летит вниз… От смертельного животного ужаса заорал в кабине Василий последним ором…
Банка с чифирем выпала из руки сержанта и залила галифе кипятком – покойник ожил, застонал!!! Заскулил ошпаренный сержант от боли, смешанной с ужасом, запрыгал на одной ноге, сдирая мокрые галифе. Попросыпались дорожники от шума…
Вот кто мне поверит, если я дальше напишу, что от страха дорожники в одних портках разбежались по ближайшим кустам? «Брехня!» – скажут. Ну… пусть будет брехня, если так проще, а они на самом деле разбежались и долго боялись возвращаться. Нет, вернулись потом, конечно, кроме одного – убежал, наверное, далеко и замёрз – под утро метель разыгралась, замело всё, и следов его не нашли.
И было так.
Уже в темноте спустились тихонечко по обледеневшей под упавшим заморозком дороге сквозь туман к мосту. Остановил Василий машину: «Сержант, надо встречку проверить, ты посиди пока, я мотор глушить не буду, не замёрзнешь». Взял керосиновый фонарь, вылез из кабинки и пошел проверить путь… А моста-то и нет, одни перила и опорные балки. Ремонт. Настил снят и вместо него две толстенные доски по ширине колеи положены. Прошёл по доскам на другой берег – где-то же должны быть дорожники, раз ремонт, только в густом тумане ни шиша не видно и тишина, как на кладбище, лишь далёкий плеск ручья из чёрной глубины под бывшим мостом.
Вернулся Василий, и стали с сержантом думать, как переехать на другую сторону. Придумали, что сержант с фонарём впереди пойдёт, путь будет указывать светом, а Василий потихоньку следом.
Тронулись, и всё, вроде, нормально было, потихоньку, на первой передаче, Василий правил машину на тусклое пятно фонаря, сержант уже на другой берег ступил, а машина как раз к серёдке добралась. И на этой самой серёдке доски, отсыревшие от туманной влаги и промёрзшие на грянувшем морозце, лопнули, как стекло, со страшным низким звоном, и ухнул тягач в чёрную пропасть, унося в себе Василия. Обломком перила пробило лобовое стекло, да так, что пригвоздило Василия к стенке кабины, и он тут же потерял сознание. Круша опоры и перекрытия, машина почти долетела до самого дна и где-то там, в страшной черноте успокоилась.
Сержант! Дай тебе боже здоровья, если ты жив! Если же нет, то светлая тебе память, и пусть твои потомки передают из поколения в поколение, как ты, зажав в зубах керосиновый фонарь, морозной ночью полез вниз, в жуткую темноту по обледенелым склонам. Ты, конвоир, вольный человек, полез спасать зэка!!!
Не за машиной же ты полез? Правда ведь, не за машиной?
Какую надо стойкость иметь, чтобы вниз спускаться в пропасть, жалея чью-то жизнь, никчемную, как можно подумать. Спасибо тебе за отца, сержант. Вытащил ты его, как тебе это удалось, я не знаю. Как ты дорожников спящих в вагончике разыскал, я тоже не знаю. Я знаю, что ты очень хороший человек. И низкий тебе за это поклон.
С опрокинутыми глазами, весь в подмёрзшей грязюке, впёрся среди ночи задыхающийся сержант в вагончик дорожников: «Жених… разбился! У… моста лежит». Попросыпались дорожники, наскоро оделись, побежали к мосту, принесли Василия и стали реанимационные мероприятия проводить. Раздели до гола, натёрли спиртом всего, чего там ещё делали, не знаю, но пришли к горькому выводу – погиб. Жалко Жениха, но что делать, и без врача понятно – кончился. Налили сержанту спирта, чифирь заварили, а сами досыпать улеглись. Сержант же, потягивая чифирь, потихоньку приходил в себя, вспоминая путь, что проделал с Женихом.
Кстати, почему с Женихом? Отчего с Женихом?
А всё от того, что постигла Василия странная любовь жены всемогущего начальника магаданского лагеря. Может и не любовь это была, а просто доверяла она ему больше, чем другим, теперь уже никто не расскажет. Но сначала про другую любовь надо поведать, ибо петелька за петельку тянется история от любви к любви.
Яловые сапоги, попова дочка и банда уголовных элементов и недобитой контры
Едва полная луна в ночь с 14-го на 15-е августа 1935 года достигла зенита, Василий, оторвав голову от казарменной подушки, начал тихие неспешные сборы. Яловые сапоги, приобретённые по торжественному случаю – главный предмет военной амуниции – были, согласно уставу, надраены до зеркального блеска и обуты. Нынешним трудно представить, что это могло тогда означать для младшего военного чина, собирающегося в дальнюю путь-дорожку.
Начав службу рядовым, Василий, ещё на гражданке окончивший курсы шофёров… Это его дружок, Петро Боярченко, подбил бросить железнодорожный техникум и в шофёры идти.
– Ты, Васька, балбес. Зачем тебе эти паровозы? Едешь ты по железным рельсам и ни остановиться тебе, ни с девушкой поболтать, ни отдохнуть даже. А в машине – красота! Увидел молодайку – остановился, то-сё… Дурак ты, одним словом!
И что вы думаете? Бросил Василий техникум, за два месяца до окончания бросил! А ведь отличником был, практику уже прошёл преддипломную!.. Такéе наше дéлечко, да юсё, да юсё…
Да… так вот, так быстро и дотошно Василий изучил до мельчайшего винтика грозную боевую машину – танк «БТ» («Быстроходный танк»), что вскорости был повышен в звании (то ли ромбик, то ли кубик красовался в его петлицах, точно не помню) и назначен инструктором танкового вождения и преподавателем материальной части. Проще говоря, учил будущих механиков устройству танкового мотора. Да так лихо это всё делал, что умудрился воспитать ни одного толкового механика и водителя за свою короткую военную службу. А ещё командира части, комбрига, возил по всяким комбриговским надобностям то в Киев, то в Чернигов, то по округе. Часть-то располагалась верстах в 80-ти от Чернигова.
А комбриг – человек был очень высокого положения, я вот забыл его фамилию, но помню, что однажды вместе с ним ещё и Маленкова подвозил Василий. Как-то по дороге где-то в поле у пригорка застряла в грязюке машина. Буксует, туда-сюда дёргается, не вылезти никак. И не объехать её. Остановился Василий, посмотрел на бесплодные попытки, да стал комментировать, да всё с юморком. Командир сидит и посмеивается, потом на часы посмотрел и говорит Василию, мол, чего зубы скалить, сходил бы помог.
Ну и пошёл Василий, подцепил по дороге какой-то обломок доски, торчавший из грязи, под колесо ведущее подложил и сам за руль сел, а молодого пацана – шофёра – попросил подвинуться. Чуть сдал назад, передачу переключил, выматерился, рванул и вырвал машину из грязюки.
Ну и всё, вроде, на прощание только пацану сказал: «Помни закон Ома: возьмешь трос – будешь дома!»
А из машины пассажир, видный такой товарищ, выглянул, и говорит:
– Подожди, воин, я с тобой дальше поеду.
Вышел, что-то мальчишке-шофёру сказал и к Василию в машину норовит влезть. Василий растерялся.
– Куда Вы, товарищ, нельзя, это военная машина…
– Ничего-ничего, мне можно, правда, комбриг? – сквозь открытое окошко спросил видный.
– Садитесь, – комбриг распахнул дверцу, – успокойся, Василий, товарищу можно.
Поехали, комбриг помалкивает, а товарищ видный всё Василия расспрашивает, откуда он, да где так хорошо машину водить учился, а потом и говорит: «А хочешь у меня в Москве служить? Я тебя возьму». И фамилию в книжечку записал.
Это уже в город они въехали, и вскорости видный гражданин попросил притормозить и вышел, пожав на прощание руку и Василию, и комбригу.
– Это кто такой был? – спросил комбрига озадаченный Василий, тот как захохочет!
– Ты что, брат, товарища Маленкова не узнал? Ну, ты даёшь!
И вот, то ли товарищ Маленков не забыл свои обещания, то ли за успехи в службе и преподавании, но был Василий представлен в величайшей почести – направлен на обучение в военную Академию в столицу. Вот по этому случаю и были приобретены яловые сапоги, начищенные ныне самой лучшей ваксой и смачно поскрипывающие при каждом шаге.
Ах, сапоги-сапоги! Гордость владельца и вожделенный предмет ходящих в картонных ботинках, чунях, опорках, лаптях и просто босых. Зеркальным блеском смущали вы сердца многих красавиц, скрипом музыкальным будили зависть. Сколько сил и особого старания прикладывал носитель ваш, дабы содержать в надлежащем виде!
Ну как мог Василий не приобрести вас, едучи покорять столицу? Конечно не мог, и откладывая скудные копейки из солдатского жалования, накопил-таки, и вот они вы – сверкаете даже в ночи, унося счастливца в даль дальнюю.
Ах, сапожки-сапоги!Вы куда меня несёте?А на станцию ж.д.Чтоб в Москву поехать…Мурлыкал, погружённый в светлые мечты Василий, пересекая плац, чтобы пройдя КПП, направиться к станции, до которой было что-то порядка трёх километров. Шагал, легко сжимая в руках небольшую котомку с вещами и поправляя съезжавшую с плеча планшетку с оформленными по всем правилам документами солдатскими.
Вот и КПП.
И Санёк курит, облокотясь на перила, не по уставу, да ночью кто увидит?
Одноклассник Василия, правда не очень они в школе были дружны, а вот служить попали вместе, и армейская сложная жизнь сделала их почти родными. Ну, не то, чтобы совсем близкими, холодок некий всегда присутствовал в их общении. Давала себя знать кулацкая жилка Санька. Батька-то его кулаком-богатеем был, Санёк, правда от него отказался, тогда так было надо.
Тут мне хочется небольшое отступление сделать.
Дед, Михайло, крепко дружил когда-то в далёком детстве и юности своей с батькой Санька. Только развела их судьба впоследствии. Батька Санька, ещё до того, как царя сбросили, в коммерцию ударился, батраков нанял и революцию встретил уже крепким кулаком. Какое было у него хозяйство, я не знаю точно, потому и описывать не буду. Но точно знаю, что когда раскулачили его, пошёл он в бандиты. Сколотил немалую ватагу удалых хлопцев и охоту затеял на человеков. В те годы, начало 20-х, дня не проходило, чтобы кого-то ногами вперёд на погост не носили. И добрая была в этом участь отца Саньки, да его удалых хлопцев. А Михайло, работая в тихой своей тюрьме ещё и в чине был повышен, и оченно хорошо надзирал за лихими хлопцами, коих иногда вылавливали всё-таки, стало быть, был в услужениях у новых властей и автоматически становился врагом лютым бывшему дружку-приятелю.
Но не про это я хотел сказать.
Летом, как вечерело, Михайло, дед, любил чай попить с семейством. Всё грызли баранки и прихлёбывали чай вприкуску. Вот тут-то и появлялся обычно батянька Санькин, всовывал в открытое окошко обрез свой бандитский, из трёхлинейки изготовленный, затвор передёргивал и ласково спрашивал: «Шо, Микола, тоби сейчас кончить, чи поживёшь трохи?» Это шутка такая у него была любимая.
Но опять не об этом я.
В середине 70-х, когда бабушка Матрёна уже стала совсем дряхлая, отец задумал продать хату и перевезти её к нам. Нашёл покупателя, сговорились о цене (копеечной, как я сейчас понимаю), пошёл в райсовет оформлять документы. Долго сидел в очередях, наконец осталась последняя подпись – председателя этого самого райсовета.
Записавшись на какой-то там день, Василий пришёл к назначенному времени, открыл дверь в кабинет и увидел: сидит за столом председательским тот самый бандит, кулак раскулаченный, дедов друг, шутник с обрезом, Санькин папенька, только постарел конечно сильно и в очках с толстенными стёклами.
И смотрели двое через стёкла друг на друга,и узнали друг друга,и видели в стёклах далёкие годы свои,и молчали долго.И в молчании этом сказали друг другу больше,чем если бы говорили.И поставил тот, что за столом сидел,подпись свою на бумаге без вопросов,и приложил без вопросов печать.Вот я и думаю, с бандитами-то полезно бывает дружить. Глядишь, они к власти пробьются, а уж они-то пробьются, будьте уверены, и нужную подпись поставят вовремя.
Впрочем, я отвлёкся, а Василий-то с Санькой тем временем минут с пяток поболтали. Василий и говорит: «Привезу тебе из Москвы подарок, что ты хочешь?»
И на это Санька вдруг нехорошо пошутил: «Сапоги твои хочу!»
Похохотали всё ж над шуткой, и собрался было Василий трогаться дальше, только Санька сказал, что ждут его двое каких-то внутри КПП, а кто такие, он не знает.
И зашёл Василий внутрь маленького помещения КПП,и увидел двоих, один просто сидел за маленьким столиком,а другой собирал маузер – только что почистил,и стали они требовать документы,и убедились, что действительно перед ними он – Василий Бублéй,и тогда встал тот, что маузер успел уже собрать,и сказал он: «Ну что, контра недобитая, петь будем?»– Что петь? – удивлённо не понял Василий.
– Арию Глинки «член на льдинке»! – И рукояткой маузера ка-а-к саданёт в зубы.
Сознание покинуло Василия мгновенно, и он не чувствовал, как хрустели разлетаясь с кровью зубы, как рухнул на пол и не знал, как потом очутился без сапог в камере, в Черниговской тюрьме.
– А как же Академия? Мне же на поезд… – свербило в каменной голове. Только не понятно, почему ноги босы… – Я же в сапогах был…
Яркая лампа в лицо – это кино, лампы не было, был холодный каменный пол, большая светлая комната и вопросы, на которые каменная голова ответа найти не могла. «Какое задание ты, погань, получил, для выполнения в Москве?» «Где назначена встреча, кто связной?» И на молчание – жестокой силы удар по рёбрам, так что валялся Василий на полу не один час.
Ничего не понимая, молчал Василий, а что отвечать – не известно. Били нещадно и изощрённо – и кулаком, и ногами, и прикладом, и ногайкой. Зубы – чёрт с ними, рёбра ломали. Потом волокли в камеру, обливали холодной водой и спустя час-два (видно самим отдых требовался) снова вопросы и снова били.
Глубокой ночью опухшего и посиневшего от побоев до неузнавания Василия приволокли в камеру и оставили до утра в полной неизвестности и растерянности.
Утро следующего дня началось с неожиданного визита. Дверь камеры открылась тихонько, и в неё просочился Михайло-отец. Он ведь в этой тюрьме и работал, надзирал, то есть. Взглянул на сына Михайло, и чуть контрреволюционером недобитым не сделался. До крови закусил губу, чтобы не зарыдать, прижал к себе горячую голову сыновью, всю в кровавых коростах и шепотом жарким стал говорить такие слова:
– Сынку, ежели тебя спросят, рыл ли ты подкоп под нашу прекрасную столицу – отвечай: «рыл!». Готовил ли покушение на членов правительства и лично на товарища Сталина, отвечай – «готовил!». Что бы ни спрашивали, какую бы дурь не говорили – сознавайся во всём, подписывай любые бумаги… Убьют же… Молчать будешь – забьют до смерти, а так – в лагерь пойдёшь, но живой будешь. Ты понял меня?!
Молчал Василий, измочаленный побоями, только щёлочками глаз глядел в глаза отцовы. Михайло несколько раз повторил просьбы свои, пытаясь понять, понял ли сынку. И в других камерах, куда после проникал, повторял то же самое не по разу.
Понял Василий, понял отца. Всё подписал, все признания сделал, очень хотелось жить.
Одно мучило особенно – не знал он, где его сапоги, а ещё не знал Василий, что три дня назад умер в Бобровице поп, и вот с этого всё началось.
Нет, началось раньше, когда красавица попова дочка повстречалась глазами на беду свою с Григорием Бублéем, средним из братьев. Зажглась от взгляда страстная искра где-то глубоко в груди, пересеклись в небесной выси судьбы, и стало это началом страшного конца. Григорий-то комсомольцем был, активистом, а тут вдруг – попова дочка. Недолго продолжалась их любовь, да встречи по вечерам, да прогулки…
Как узнал поп про дочернюю любовь – неизвестно, но узнал и в отказ: «Ничего слушать не хочу – с антихристом?! Не позволю!» Учинил такой разгон, что с церкви чуть купол не навернулся. Запер поп дочку безвыходно, и всем домашним шпионить велел, чтобы близко Григория не подпускали.
А тот помаялся дня три, да и решил украсть возлюбленную. Как? Сговорился с младшим братом – Иваном, да с Петькой Боярченко так: Петро на машине подъедет во время всенощной службы к попову дому, а невеста уже будет ждать с чемоданом собранным, записку ей Иван должен был передать. Дальше хотели на дальний хутор уехать и там переждать какое-то время, глядишь, гнев попа милостью смениться, и будут они жить долго и счастливо…



