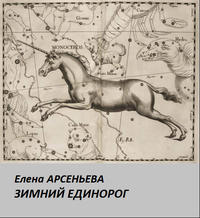Полная версия
Роковое зелье

Елена Арсеньева
Роковое зелье
Ты думаешь, что ты двигаешь,
а это тебя двигают.
ГётеПролог
…Его гнали, как гонят дикого зверя, – по кровавому следу. И не надо было оглядываться, чтобы почуять погоню: он слышал распаленное дыхание преследователей, их азартные голоса:
– Туда, туда! Смотри, вон кровь! И там, и там!
– Вижу. Ату его!
И третий голос – самый для беглеца страшный, ибо именно этот голос отдавал приказание о его убийстве.
Голо, каменисто было вокруг, спрятаться негде, ни укрытия, ни кустика; наконец отсветы затаившейся меж туч луны помогли разглядеть впереди достаточно глубокую расщелину. Все вокруг уже успело остыть после наступления ночи, холод мгновенно сменял в этих краях раскаленный дневной жар, беглеца била дрожь не только от страха или потери крови, но и от стужи, а эта расщелина мнилась не только темной, но и отчего-то теплой, воистину спасительной.
Ему оставалось три-четыре шага, чтобы добраться до нее и кануть в эту благословенную, непроницаемую тьму, отдышаться, перетянуть рану на плече, которая была так близко, слишком близко к яремной вене – это чудо, что лезвие разбойного ножа не зацепило ее! – да, ему оставалось каких-нибудь три-четыре шага до жизни, когда луна вдруг вырвалась на небо, изгнав с него мелкие, тускловатые звездочки, спрятав их, словно тридцать потертых сребреников, полученных за предательство. Он услышал слитный торжествующий вопль своих преследователей, но не сдался – рванулся вперед в последней, отчаянной, слепой, нерассуждающей надежде на милосердие Божие. Однако Господь-вседержитель был, похоже, отвлечен нынче делами иного свойства, он даровал милостью своею кого-то другого, более достойного, а может, чаша грехов этого преследуемого, затравленного человека уже переполнилась сверх всякой меры – во всяком случае, отец наш небесный не простер руку свою, не прикрыл ею беглеца… и тот всем лицом уткнулся в скалу.
Благословенная расщелина, к которой он так стремился, оказалась лишь игрою света и тени, непроницаемой каменной стеной, и, чтобы пройти ее, следовало бы знать нечто гораздо более значительное и могущественное, чем таинственные, чародейные слова: «Сезам, откройся!» А он не знал таких слов. Крики его убитых слуг зазвучали в голове, словно дальнее эхо: души эти несчастных еще не успели далеко отлететь, но уже прониклись потусторонним всеведением. Они знали, что скоро встретятся со своим хозяином и другом, они приветствовали его и ободряли. И ему оставалось лишь прильнуть всем лицом к немилостивому камню и, шепча последнюю молитву, принять удар в спину: роковой удар, смертельный.
Он не был трусом и не повернулся не потому, что боялся. Он просто не хотел видеть красивое, равнодушное лицо человека, который убьет его.
А впрочем, нет. Красивым оно быть не могло. Лицо предателя и убийцы всегда безобразно.
* * *…Его гнали, как гонят дикого зверя, – по кровавому следу. И не надо было оглядываться, чтобы почуять погоню: он слышал распаленное дыхание преследователей, их азартные голоса:
– Туда, туда! Смотри, вон кровь! И там, и там!
– Вижу. Ату его!
Эти голоса мешались в помутившемся сознании с криками его убиваемых слуг и этих двух несчастных, мужа и жены, которые лишь по случайности оказались нынче вечером на постоялом дворе – и принуждены были разделить судьбу и смерть с обреченными. Алекс отчего-то не сомневался, что он и его спутники были обречены, что нападение было обдумано заранее, это не просто внезапно вспыхнувшее желание ограбить богатых иностранцев (тем более что и Алекс, и его спутники выглядели весьма скоромно) – нет, его ждали в этом доме. Недаром проводник тянул время в пути, ну а потом, когда уже затемно прибыли в Лужки, очень старался доказать, что непременно нужно сделать крюк и заночевать именно здесь, на другом конце деревни, а не в первой попавшейся избе.
Впрочем, дома остальных туземцев поражали убожеством, а это было единственное приличное строение: просторное, в два яруса, чистое и опрятное даже внешне. Хоть Алекс и нагляделся на русскую бедность и неустроенность, мог бы, кажется, обвыкнуться с ними, но нет – они по-прежнему внушали ему отвращение. Воистину, это была дикая страна, вернее, обиталище диких людей, и Алекс отчаянно стыдился своего кровного родства с ними – теперь почти забытого, известного, по счастью, лишь немногим…
Но сама земля здешняя поражала красотой и благолепием, словно Господь был в особенном, просветленном расположении духа, когда созидал ее, и красота эта невольно находила горделивый отклик в его сердце. Впрочем, Алекс вспоминал письма своего будущего патрона и старался охладить себя: ведь это буйное цветение не вечно, лето здесь заканчивается быстро, а на смену приходит зима, настолько свирепая, что даже германские стужи покажутся в сравнении с ней мягкими оттепелями, а уж ветры Атлантики, охлаждающие берега Испании, вовсе почудятся нежными зефирами[1]. Но сейчас до зимы еще было далеко, сейчас стояло лето, все вокруг роскошествовало красками и ароматами, кружило голову, все жило и наслаждалось жизнью! Сама мысль о смерти в такую пору кажется кощунственной, оскорбительной нелепостью, словно застывший в последней ухмылке оскал черепа.
Однако этот жуткий череп смерти уже заглянул в глаза Алекса черными провалами зениц и сейчас, в минуты последнего помрачнения, почудился ему пугающе схожим с чертами того человека, которого он убил сам, своими руками, недавно… убил в Испании таким же роковым ударом, как тот, от которого погибает сам. И особенное, внушающее немыслимую тоску совпадение заключалось именно в том, что первый удар оказался недостаточно меток: истекающей кровью жертве удалось на некоторое время ускользнуть от преследователей и испытать пытку последней, несбывшейся надеждой на спасение, пока его не настигли и не добили.
Его собственные надежды тоже не сбудутся, знал Алекс, его тоже настигнут и добьют – вот сейчас, через мгновение, – но поверить в это было так трудно, так невозможно, что он невольно воззвал к Господу и Пречистой Деве, и ему показалось, что кто-то чужой бормочет рядом слова молитвы на местном наречии, хотя это он сам вдруг вспомнил полузабытый язык своего детства и невольно выговорил по-русски:
– Господи, помилуй! Матушка Пресвятая Богородица…
Бог был на небесах, его Пречистая Матерь – там же, далеко и высоко, а преследователи – вот они, рядом! Та тьма, которая представала пред Алексом сплошной путаницей теней, кустов, листьев, была проницаема их привычным взорам, они не сбивались с пути, видели смятую тяжелыми шагами траву, кровь на этой траве, слышали надсадное дыхание беглеца, и даже стоны, которые он давил в груди, чудилось, были слышимы ими!
Алекс вдруг ощутил, что не силах сделать больше ни шагу, и начал валиться вперед, но наткнулся на какое-то дерево – и удержался на ногах, обхватив его стройный ствол. Прильнул лицом к прохладной шелковистой коре. Это была береза – да, ствол нежно белел в темноте, словно обнаженное, стыдливое тело. В последнем проблеске прощания с жизнью Алекс вдруг с болью подумал, что никогда уже не узнает, как это бывает – когда для тебя, для тебя одного мерцает в ночи тело любящей, ждущей, нагой женщины. Не потому не узнает, что это воспрещают его обеты, – просто не успеет. Смерть уже держала его за ворот, уже тащила в свои объятия. Смерть – она ведь тоже женщина, она ревнива, она не упускает добычу…
Не хотелось поворачиваться, он цеплялся за этот нежный березовый ствол, прижимался к нему, словно любовник, который прижимается к телу возлюбленной, ловя последние искры летучего наслаждения… И вдруг пронзительный визг раздался за его спиной – такой внезапный, такой страшный, что Алексу показалось: бездны ада наконец-то разверзлись, и все силы тьмы вышли, чтобы отнять его душу. Мелькнуло еще полудетское изумление: как же так, его уверяли, будто ничто не слишком в битве за истину, все средства хороши, и цель оправдывает средства, можно нарушить хоть все семь Божьих заповедей враз и по отдельности, и это будет благоугодно Господу, а получается – нет, ежели открылись ему не врата рая, а глубины преисподние?!
Но тут сердце замерло, сознание покинуло его, он соскользнул по стволу наземь и простерся в высокой траве, запятнанной его кровью. И на белой коре тоже остался кровавый след, словно именно береза была ранена нынешней судьбоносной ночью, – береза, а не человек.
Август 1729 года
– Это еще кто?! – Могучий, ражий и рыжий мужик разглядывал стоящего перед ним парнишку с таким видом, словно не мог поверить своим светлым навыкате глазам. – Спеси в тебе что в собольем воротнике на боярской шубе!
Ну, если здесь кто-то и казался спесивым, то это сам хозяин с его вольно расправленными плечами (иначе не сносить толстого, выпирающего живота), надменно поднятыми бровями и презрительно искривленными губами. Он мог себе позволить такую повадку: первый человек в Лужках, самый крепкий хозяин, к тому же староста. Когда князь-батюшка наезжает в Лужки – на охоту, скажем, или просто доглядеть свое имущество (по пословице: «Хозяйский глазок – смотрок!»), он всегда останавливается у Никодима Сажина, не брезгуя его избой, которая, по собственному княжьему выражению, более напоминает терем. Чистота, покой, полное удовольствие для хозяина Лужков и самого Никодима. Случается, и другие господа, спешащие в Москву (Лужки стоят хоть и не на самой проезжей дороге, но все же хорошо с нее видны, так что, не хочешь ночевать на обочине – свернешь туда), просят у Никодима приюта, и он не отказывает никому. Да вот не далее как две недели назад ночевали у него добрые люди – угрюмый и диковатый иноземец со свитою и еще пара: муж с женою, спешившие в Москву по каким-то своим делам. Хорошие оказались гости, грех Бога гневить…
Никодим с ухмылкой перекрестился, полностью отдавшись своим, только ему понятным мыслям, и недовольно вздрогнул, услышав рядом позвякиванье удил: усталый, как и хозяин, конек парнишки встряхнул головой.
Никодим оценивающе оглядел высоконького и худенького юнца. Совсем дитятко, даже и первого пуха на подбородке не наросло! Личико нежное, будто у девчонки, но глаза строги и холодны, словно два сизых озерца, уже подернутых ранними осенними заморозками. Встречают, конечно, по одежке, а одет был незнакомец в какой-то нищий кафтанишко и портки с залатанными коленками и хилой веревочной вздержкою, однако именно выражение его глаз заставило Никодима остановиться, взглянуть повнимательнее и даже отвечать, когда неприметный на вид бродяжка вдруг попросился на ночлег к нему, хозяину наилучшего дома в Лужках! Мог бы, кажется, остановиться у околицы: что вдова Матвея Ваньшина, что угрюмый бобыль Тиша Коровин охотно дали бы приют хожалому человеку. Нет же – юнец не поленился пройти полсела, а главное, не сробел обратиться к Никодиму Митрофанычу, и при этом единственный знак почтения, который ему оказал, – шапку сдернул с русоволосой, небрежно стриженной головы. И то не сразу, а несколько погодя, точно забывшись. Как если бы непривычен он был ломать пред кем-то шапку! И поклона не отдал – тоже как бы непривычен был шею гнуть перед каждым-всяким. И хотя вроде бы просил, но униженным просителем не выглядел. Более того – под взглядом его холодноватых глаз Никодим сам ощутил себя вдруг не то что не первым, но вовсе последним человеком в деревне. Таким, бывало, ощущал он себя, когда князь-отец готовился наорать на него, а то отвесить заушину с оплеухою, зуботычин надавать. Поначалу глаза его становились вот так же студены, надменны, неприступны, словно в одно мгновение он возносился на некие высоты, где раздают людям барского звания права карать и миловать смердов своих.
Вот оно! Вот что насторожило Никодима с первой же минуты в этом странном парнишке, вот что заставило слушать его, говорить с ним, размышлять о том, почему какой-то замарашка худородный нахрапом прет в наилучшую избу, словно к себе домой, не желая помнить ни места своего, ни чина. Парнишка держался так, словно имел на это некое право, и его уверенности в себе не могли скрыть убогая одежда и осунувшееся от усталости лицо. Конечно, может статься, что этот кафтанишко, поношенный, однако суконный и хорошего крою, достался ему с плеча какого-нибудь сердобольного барина. И от того же барина перепали портки – пусть линялые, но не холщовые, домотканые, а саржевые – и просившие каши сапожки со сбитыми каблуками. Однако выглядел парнишка как человек, привыкший носить хорошую одежду. Он явно тяготился своими обносками. Ну а сбруя его заморенного коняшки была вовсе новая, справная! Это значит… Это значит… Еще не успев толком осознать, какая мысль выклевывается в голове, словно птенец из яйца, Никодим милостиво кивнул:
– Давай, вали в избу, так и быть. Нынче я добрый. Нынче тятеньки моего покойного година… об эту пору прошлым летом преставился от грудной жабы!
Он перекрестился и провел согнутым пальцем под сухим глазом, отирая воображаемую слезу.
Стоявший рядом низкорослый и чрезвычайно тщедушный человечек с нелепой, раздутой и в то же время удлиненной, словно семенной огурец, головой, выглядевший рядом со статным, раздобревшим Никодимом какой-то ошибкою природы, в точности повторил его движение и выражение лица. Он, как и хозяин, преотлично знал, что отец его, Митрофан Сажин, тоже староста деревенский, преставился не прошлым летом от грудной жабы, а был насмерть забит в пьяной драке аж двадцать пять лет назад, после чего все Лужки вздохнули свободно… ненадолго, впрочем, потому что вскоре начал входить в возраст и силу Никодим Митрофаныч, оказавшийся достойным преемником своего тятеньки! Тем не менее Савушка, шурин, приживал и ближний человек Никодимов, ни словечком не поперечился лгущему сроднику, а только нагнал еще больше морщин на свое и без того сморщенное личишко, состроив на нем выражение крайней печали.
За те восемнадцать годков, что жил он при Никодиме, женившемся на его сестре Анне, Савушка научился понимать сродника и хозяина с полуслова и изрядно заострил свой и без того нехилый умишко. Он мигом постиг ход Никодимовых мыслей и уже видел, как станут развиваться события дальше. Времена нынче лютые, немилостивые… а когда они не были таковыми на святой Руси, нашей матушке?! Немало разных татей и лиходеев таскается по проселочным дорогам, норовя малость разжиться за счет ближнего своего.
Только очень крепкие господа отваживаются путешествовать в подлинном своем обличье – но непременно внушительным поездом, с многочисленной свитою и под надежной охраной, отпугивающей всякого лесного жителя, от голодного волка до разбойничка. А что касаемо народа попроще… Савушка знал, что иные хитрые люди, отваживаясь пуститься в дорогу в одиночестве (мало ли какая нужда человека гнать может?), принимали облик самый что ни на есть неприглядный, дабы не искушать малых сих, жаждущих кровавой поживы. И Савушка готов был поклясться последними волосенками, еще кустившимися на его плешивой головешке, что юнец, смело и прямо стоящий перед Никодимом Митрофанычем, один из таких достаточных господ, который скрывает свое истинное положение… и содержимое своего кошеля, наверняка припрятанного под складками потертого кафтана. Иные шьют широкие пояса с многочисленными кармашками и прячут добро туда. Пояса потом надевают на голое тело, не снимая даже на ночь, даже засыпая, так что добраться до червончиков непросто… непросто, но вполне возможно. Надо лишь ухитриться устроить так, чтобы владелец пояса уснул без просыпу. Для умелого человека – плевое дело! И Савушка растянул губы в такой довольненькой улыбочке, что любой приметливый человек при виде ее повернулся бы на пятках и дал тако-ого дёру от этого приманчивого дома и вообще из Лужков…
Но, судя по всему, юнец, просившийся на ночлег к Сажину, не отличался особой приметливостью, и Савушкина плотоядная ухмылочка осталась им не замечена. И он покорно проследовал за Савушкой, который провел его по узкой лесенке в просторную комнату под самой крышей, где под стенками стояли четыре топчана да еще валялись на полу охапки соломы. До этого гость попытался было сам заняться своим конем, расседлать, напоить, почистить, но Савушка кликнул мальчишку с конюшни и поклялся, что скакуна не оставят без заботы, обиходят еще ласковей, чем всадника. Юнец смерил Савушку холодноватым взглядом, и тот обратил внимание, что веки гостя вспухли, а глаза покраснели – наверное, от бессонных ночей и дорожной пыли. «Спать крепче будет!» – довольно подумал Савушка и опять ухмыльнулся.
– Где мне лечь? – спросил гость, оглядывая комнату и пряча руки в рукава великоватого ему кафтана. Савушка заметил, что пальцы его побелели и дрожат.
– Да где понравится, хоть бы вон под той стеночкой, там не дует. А станет холодно, ряднинкой покройся. Ночи, правда, душные, но я гляжу, тебя знобит. Озяб? Или с устатку?
– Да, я устал, – сдержанно отозвался гость, пристально глядя на раскаленно-алый солнечный шар, катившийся к закату.
– Ужинать будешь? Хлебы нынче пекли, еще горячи. А уж запах сладок… – Савушка, большой любитель горяченького хлебца (пускай с него брюхо пучит, но больно вкусен!), громко сглотнул.
– Не голоден я, благодарствую. Сколько с меня за постой? – спросил гость, так же неотрывно глядя в окно. Алые закатные отсветы пятнали небо, словно кто-то пробежал по светлой глади, оставив окровавленные следы. Парнишка на мгновение зажмурился и покачнулся, но тут же сердито мотнул головой и выправился.
– Хозяин утром сочтет, – отмахнулся Савушка, окидывая юнца приметливым взором и пытаясь угадать, запрятано добро его по карманам либо и впрямь в пояс вшито. – Тебя как звать-величать, гость дорогой?
– Данька… Данила то есть, – выговорил парнишка с некоторой запинкою. – Мне бы лечь. Усталь с ног валит.
– Спи с Богом, Данила, – со всей возможной приветливостью пожелал Савушка, окидывая его прощальным взглядом. – Эй, ты где так вывозился? С волком братался, что ли?
Юнец окинул себя суматошным взглядом и проворно стряхнул с кафтана несколько клочков серой шерсти. Исхудалые щеки его слегка порозовели.
– Псина какая-то приблудилась перед деревней, кинул я ей корку, она на радостях меня всего облизала да измарала, – пояснил он, подходя к окошку и выбросив комочек шерсти во двор.
Савушка удивился. Любой другой швырнул бы мусор на пол, вот и вся недолга. А этот… Ох, правы, судя по всему, окажутся они с Никодимом. Непростой это человечек. Загадочный! Но да ничего. У них впереди целая ночь, с лихвой хватит времени все загадки разгадать!
Он вышел, притворив неслышно дверь. Вообще все двери в доме Никодима висели на смазанных петлях и открывались да закрывались совершенно бесшумно. Кто-то скажет, доглядчивый, мол, хозяин. Но…
Ладно, не об том речь.
Юнец, назвавшийся Данькой, с явным облегчением перевел дух, словно даже дышать не мог в полную силу в присутствии Савушки, а потом провел руками по лицу, будто умываясь. Когда опустил их, стало видно, что он и впрямь «смыл» это свое надменное, равнодушное выражение. Теперь в чертах его отчетливо видны были полудетский страх, отчаяние и растерянность. Он высвободил из рукавов тонкие дрожащие пальцы и стиснул их движением крайнего отчаяния.
– Господи! – прошептал пересохшими губами. – Господи, дай мне силы!
Как страшно сделалось, когда этот уродливый человечек вдруг заметил на кафтане шерсть Волчка! Подумаешь, невелика вроде бы беда, собачья шерсть, но ведь на воре, как известно, шапка горит. Даньке почудилось, будто маленькие черненькие глазки прожигают его насквозь, прозревают все его тайные помыслы. Но все же удалось отовраться… кажется. Ладно, ночь покажет! Ночь даст ответ на все вопросы.
Теперь главное – не уснуть.
Данька присел на топчан – не тот, на который указал Савушка, а прямо под окошко. От обильно пролитых совсем недавно слез до сих пор колотит. Ни от какой не усталости, а именно от тех горьких слез, которым, казалось, исходу не будет. Но слезы иссякли, на смену им пришли холодная решимость и ненависть. Она, эта ненависть, будет всю ночь придавать ему бодрость, она даст силы выждать, высмотреть, узнать, понять… отомстить!
Тяжело дыша, Данька привалился головой к подоконнику. Как болят глаза, словно песку в них насыпали. Зажмурился – сразу стало легче. Не заснуть бы… да нет, как можно? Спать нельзя! Он ни за что не уснет!
С этой мыслью Данька провалился в сон так же стремительно, как человек в темном ночном лесу проваливается в ловчую яму, предательски оказавшуюся на пути.
Январь 1727 года
За высокими окнами дворца Прадо сияло солнце, однако ветер дул ледяной. Дворец был настолько пронизан сквозняками, что вполне уместными казались и яркое пламя, играющее в огромном, похожем на дом, камине в королевском кабинете, и отделанная мехами одежда двух господ, стоявших друг против друга.
Один из них – плотный, низкорослый, с высокомерным лицом человека, привыкшего повелевать, был сам король Испании Филипп V. Его собеседник тоже не отличался высоким ростом, но обладал по-юношески изящным сложением, аристократическими, маленькими руками и ногами. Трудно было дать этому человеку те тридцать пять лет, которые он прожил на свете. Оливковое, с точеными чертами лицо его было гладким, губы яркими, в черных волосах и аккуратной, едва заметной, весьма кокетливой бородке не нашлось бы и намека на седину. Правда, мало кто знал, что герцог Иаков де Лириа – а имя и титул его были именно таковы – заботливо вырывает все седые волоски из своих пышных волос, а в дополнение к этому поддерживает их черный как смоль цвет с помощью особой краски. Герцог весьма заботился о своей внешности и считался одним из красивейших мужчин при дворе Филиппа. Он знал о своей красоте и, подобно Нарциссу, не уставал ловить взором свое отражение во всех зеркалах, стеклах и витринах книжных шкафов, коими был уставлен королевский кабинет.
Король отлично замечал это и с трудом сдерживал усмешку. Фельдмаршал, камергер, де Лириа был внуком (от внебрачного сына, Фицджеймса) изгнанного и умершего в Испании английского короля Иакова II. Католическая церковь считала его одним из самых вернейших своих сыновей. Однако своими кокетливыми повадками де Лириа мог дать фору любой придворной красотке. Пристрастием к высоким, сильным, широкоплечим мужчинам – тоже… Впрочем, король Филипп был монархом мудрым, снисходительным к некоторым маленьким слабостям своих придворных – особенно если эти слабости были присущи столь полезному и умному человеку, как герцог де Лириа. И если раздражение порою начинало закипать в его душе, особенно когда устремленные на собственное отражение глаза де Лириа становились слишком уж томными, король умело подавлял его. Ведь ему недолго оставалось терпеть причудливые замашки герцога. Сегодня его величество давал де Лириа прощальную аудиенцию, вручая ему подписанные кредитивные грамоты к русской царице Екатерине, императрице Иберии и Персидских областей[2]. Уже завтра де Лириа предстояло кружным путем, через Италию, выехать в Московию для того, чтобы приступить к исполнению обязанностей испанского посланника, полномочного министра[3] при русском дворе.
– Первое внимание при исполнении вашего служения должно быть обращено на ваше поведение, – отеческим тоном сказал король, пытаясь перехватить неуловимый взгляд де Лириа. – Ведите себя во всем с таким тактом, с такой скоромностью, чтобы вы лично и ваши слуги были образцом для каждого; пусть все служит к вашей похвале, да не будет в вашем поведении ни малейшего повода к вашему осуждению.
Намек был, очевидно, слишком тонок. Де Лириа и бровью не повел, а между тем король был осведомлен о том, что супругу свою герцог оставляет в Мадриде. С ним же в Россию выезжают четверо кавалеров, желающих разделить его одиночество в стране северных варваров, но главное – в составе сотрудников посольства едет Хуан Каскос, секретарь де Лириа. Личность этого господина, по слухам, является предметом постоянных раздоров между герцогом и его супругой…
«А впрочем, Бог с ними со всеми, – мысленно отмахнулся король, который не уставал радовать страстную королеву Елизавету Фарнезе, итальянку по происхождению, своим вниманием. – Разве я сторож брату моему?»
Он продолжал свои наставления:
– Вы знаете, что такая осторожность уже сама по себе весьма нужна для вашей службы и для исполнения возложенных на вас обязанностей; но она тем более важна при дворах, которые не исповедуют нашей святой религии и где поступки, дела и слова католиков служат предметов внимания и обсуждения. Позаботьтесь жить с вашими домашними без малейшего повода для соблазна и в великом страхе Божием – это послужит главнейшим шагом к успеху дела.
Блестящие глаза де Лириа приковались к лицу короля, сощурились. О нет, герцог вовсе не был глуп или легкомыслен. И как только речь зашла о том, что он действительно считал важным, как он сумел напрячь все свое внимание. Ведь король имел сейчас в виду не только и не столько установление хороших отношений с Московией, сколько продвижение на восток католической церкви, успеху чего должен был способствовать де Лириа. Впрочем, в этих вопросах его надлежало проинструктировать архиепископу Амиде, иезуиту и духовнику королевы, ведавшему дипломатической перепиской. Де Лириа тоже был иезуитом, однако предполагалось, что Филиппу сие неизвестно. Поэтому король вновь перешел к разговору о сугубо светских делах: