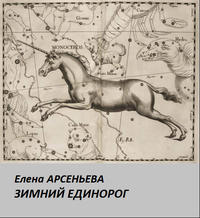Полная версия
Обнаженная тьма

Елена Арсеньева
Обнаженная тьма
Автор искренне благодарит сотрудников Пятой Градской больницы Нижнего Новгорода за помощь в работе над книгой.
Черный джип летел по ночному городу, как стремительный сгусток тьмы. Жизнь в Нижнем, особенно зимой, когда темнеть начинает чуть ли не в четыре, замирает после восьми вечера, и улицы были практически пусты. Какое-то время позади так же быстро мчалась «Скорая помощь», но потом то ли отстала, то ли свернула. Проспект засвистел мимо со скоростью сто пятьдесят километров в час.
– Быстрей, – послышался голос с заднего сиденья. Голос звучал спокойно, однако водитель прекрасно знал, чего стоит это спокойствие.
– Успеем, – мягко сказал он, послушно увеличивая скорость, но тут же сбрасывая ее до прежней.
Он и так идет слишком быстро по одной из центральных магистралей города. Достаточно, что благодаря мигалке и сирене игнорирует светофоры. А сиреной злоупотреблять нельзя: если обратит внимание и прицепится какой-нибудь принципиальный придурок-автоинспектор, беды не оберешься. Или выскочи сейчас, не дай бог, под колеса кошка либо собака… на такой скорости всем конец. И, что гораздо важнее, всему!
Оставалось надеяться, что в такую пору кошки и собаки, как и нормальные менты, носа на улицу не высовывают.
Начался спуск на мост, пришлось притормозить: к ночи подмораживало, стало скользко.
– Быстрей! – В голосе пассажира появились истерические нотки.
– Успеем!
Джип вылетел на мост. Слева мелькнула красивая церковь, и водитель мысленно попросил: «Господи, помоги нам!»
Господь много чего мог бы сделать, если бы захотел. Очистить путь до аэропорта для него – плевое дело. Осталось каких-то десять минут езды, ему не придется особо напрягаться. Еще нужно гарантировать своевременный вылет самолета. Счастье, что небо чистое, ясное, усыпанное мелкими колючими звездами, то есть летную погоду добрый боженька уже обеспечил.
Водитель одобрительно мигнул какой-то звездочке, которая назойливо лезла в поле его зрения. Молодец, старикан! Четко работает – не зря говорят, что старый конь борозды не портит! Он поймал себя на том, что думает о боге как об одном из их команды, словно и господь принимал участие в операции наравне с ним и другими ее участниками. И если на напарника была возложена задача принять груз и обеспечить его сохранность, на него самого – как можно быстрее доставить груз сперва в аэропорт, а потом из аэропорта до места назначения, то у бога были свои участки работы, с которыми он справлялся пока что с блеском.
Сзади раздался тяжелый вздох, и водитель спрятал усмешку – такое облегчение слышалось в этом звуке. Конечно, домчаться до аэропорта от самого центра города за двадцать минут – это круто. Это очень круто!
Теперь на стоянку; вон из машины; запирать джип нет времени, да и пес с ним, его скоро заберут, только не забыть сдернуть мигалку с крыши, чтобы не привлекать ненужного внимания. Бегом в здание, к стойке регистрации номер четыре, над которой еще не сменилось название прежнего рейса «Н. Новгород – Киев»…
«Еще загонят по ошибке в Киев!» – подумал он ни с того ни с сего.
Глаза у аэропортовской барышни просто-таки на лбу:
– Да где же вы?! Я понимаю, рейс чартерный, но хоть какой-то порядок должен же быть! Из-за вас задержится вылет в Борисполь!
Махнула досадливо рукой и со всех ног побежала к служебному выходу на поле с надписью «Посторонним вход строго воспрещен», потому что барышня тоже была в деле и знала: проходить досмотр им ни к чему.
Водитель оглянулся. Его напарник бережно прижимал к груди маленький квадратный чемоданчик. Лицо бледное, губа закушена.
– Помочь?
Тот не потратил времени даже на то, чтобы покачать головой. Впрочем, вопрос вырвался совершенно машинально: водитель знал, что напарник не выпустит драгоценный груз, даже если к его виску приставят пистолет.
Самолет далеко, черт… Ого, какой ветрила здесь, на поле! Кепку сорвало, унесло. Краем глаза водитель увидел, что за компанию улетела в темноту шерстяная шапочка его напарника. Седые, коротко стриженные волосы стали дыбом, да и у самого водителя вид наверняка ничуть не лучше. Скользкие бетонные плиты, черное небо в вышине, ледяной ветер вышибает из глаз слезы, а в ушах нарастает мощный рокот мотора.
Трап, обогнувший бегущую по летному полю троицу, уже подъезжал к самолету. Наверху отворилась овальная дверца, и через несколько мгновений все трое, еле дыша, ввалились в сумеречное тепло.
Сопровождающая обменялась торопливыми репликами с бортпроводницей, потом обернулась к своим спутникам:
– Ну, счастливо!
Зябко обхватила плечи – водитель только сейчас заметил, что девушка даже не оделась, так и бежала в легоньком синем костюмчике, – и выскочила на трап. Дверцу снова закрыли.
– Проходите, пожалуйста.
Напарник сел в хвосте, водитель, уклоняясь от косых, любопытных взглядов стюардессы – не иначе пассажиры банк грабанули, больно уж вид у них перебулгаченный! – устроился через проход. Защелкнул на животе привязной ремень, покосился на чемоданчик, пристегнутый к запястью напарника и стоящий у него на коленях. С этим чемоданчиком они здорово похожи на дипкурьеров из какого-то американского фильма. Впрочем, дипкурьеры не бегают в обтерханных джинсах и пропотевших куртешках. А от его напарника вдобавок несет какой-то медицинской гадостью.
– Господа, экипаж к взлету готов. Счастливого пути!
Ну, давай, поехали, поехали! Сказано же было – взлетать, как только пассажиры будут на борту.
Он одернул себя. Ладно, угомонись. Пока допустимо слегка перевести дух. Чего они точно не смогут сделать, так это заставить самолет лететь быстрее. Тут даже сам господь бог бессилен…
Водитель посмотрел на часы. Со времени начала операции прошло около часу. И еще час полета, потом час, это как минимум, мчаться от аэропорта… Получится три. А всего у них в запасе самое большее – четыре часа. Хорошо, если в аэропорту их ждет вертолет, как было обещано. Ну а если нет? Если придется гнать по Москве на четырех колесах?
И тут он впервые осознал, что напарник беспокоился не зря: они могут не успеть!
* * *Днем Александра нашла часы, а ровно через сутки ее похитили.
Всякий раз, когда Александра находила часы, что-нибудь да приключалось. Больше всего запомнилось, как она первый раз нашла часы в песке на Гребном канале. Прибежала радостная домой, – и узнала от бабки, что мать уехала. «Сбежала с хахалем» – бросила их. Александре было тогда пять лет.
Потом она не раз находила часы по всяческим большим и мелким пакостным случаям: например, перед тем как вдруг объявился некогда пропавший отец и неприязненно сообщил, что ни бывшая теща, ни дочь не могут отныне рассчитывать на него, поскольку у его новой жены родился ребенок. Хотя это событие из неприятного потом превратилось в приятное, ибо со своей мачехой, Ангелиной Владимировной, Александра со страшной силой подружилась, а сводная сестра вообще жила у нее, когда перебралась в Нижний.
Последний раз Александра нашла часы накануне того дня, как решила, на радость сестре, бросить «этого маменькиного сынка, который выпил из тебя всю душу». С той поры прошел чуть ли не год, и постепенно она привыкла к одиночеству, спокойствию, безрадостности новой своей жизни (хотя приносила ли радость любовь к Косте – это еще большой вопрос!) и беспокоилась только о том, как бы не слишком привязаться к сестре, не превратиться в сверхзаботливую няньку при этой хорошенькой вертихвостке и не начать невольно вымещать на веселом молоденьком существе унылое миросозерцание потенциальной старой девы.
Или все-таки в двадцать семь уже можно считаться законченной, а не потенциальной старой девой? Особенно если у тебя волосы цвета пепла, зачесанные со лба и забранные старинной бабушкиной гребенкой, плакатно-румяные щеки, неприступно вздернутый круглый подбородок и болезненное пристрастие к серому, от цвета глаз и до цвета тонкой шифоновой блузки, воротничок которой иногда можно разглядеть под накрахмаленным белым халатом?
«Я похожа на бабушку в молодости, – уныло думала Александра, когда ей приходила фантазия задержаться у зеркала. – Вернее сказать, у меня ужасно старомодное лицо! Все-таки я типичная старая дева».
Она как-то упускала из виду, что бабушка совсем не была старой девой. Вот уж нет! Она немало попортила крови своему мужу, да и дочь ее, Александрина шалая мамаша, взяла свое в жизни, прежде чем утонула на неведомой реке Зее, катаясь на лодочке, для которой оказалась не в подъем пьяная компания. И с отцовской стороны наследственность была нормальная, если судить по сестре, у которой в восемнадцать лет имелся за плечами один неудачный, трагический, можно сказать, любовный роман, а сейчас, по-видимому, раскручивался второй, о котором Александре ничего толком не было известно. Восемнадцать лет – и два кавалера! А у нее… Ну что ж, в семье не без урода!
Впрочем, вернемся к часам. Благодаря предупредительности судьбы, которая как бы пыталась возмещать этими мелкими находками грядущие весомые потери, Александра никогда не имела собственных часов, то есть купленных или подаренных, а не найденных на дороге. И вот однажды последние («Костины», как она с издевкой называла их) часы пропали. Еще утром, выходя из дому, Александра застегнула их на руке, а когда после вызовов вернулась в поликлинику, обнаружила, что ее запястье опустело. Где, когда, в какую воду канули красивые часы марки «Чайка» в корпусе, отделанном под дерево, и с красным кожаным ремешком – неведомо.
Однако она никогда не беспокоилась по этому поводу, зная, что будет день – будет и пища, одно ушло – зато придет другое: бог пошлет! Что в придачу к часам тот же бог пошлет какую-нибудь гадость, Александра старалась не думать!
Миновала неделя, другая, но Александрино запястье все еще пустовало, как брачное ложе в ожидании подгулявших молодоженов. И настолько осточертело беспрестанно спрашивать всех встречных-поперечных, который час, что она начала всерьез задумываться о покупке хронометра.
Но судьба не иначе как решила поберечь ее кошелек…
Итак, это случилось днем. Александра бежала по Высоковскому проезду. Бежала, впрочем, не то слово: после оттепели крутой узехонький тротуарчик покрылся рыжей снежной кашей, ударивший прошлой ночью заморозок превратил слякоть в лед. Здесь, в сплошном частном секторе, жившем по своим законам, чистить тротуар считалось городским предрассудком. За день дорожку расходили и разъездили так, что Александра не падала на этой скользанке только сущим чудом. Вдобавок она сегодня, не ожидая такой подлянки от природы, надела сапоги на высоких каблуках… Словом, неудивительно, что старик Филатов (хронический бронхит, застарелый радикулит и артрит, но сердце работает как, извините за выражение, часы, а желудок способен переварить железные гайки), который, по обыкновению, стоял у ограды, согнувшись в три погибели, подпирая пятой точкой ворота и уложив клешнястые руки на клюку, при виде семенившей Александры спросил не без ехидства:
– Бежишь, что ль, Егоровна?
– Бегу, бегу, дедуля, – сквозь зубы процедила Александра, слишком занятая преодолением закона Ньютона, чтобы быть приветливой.
– Ну, я и вижу, что бежишь, как гулявица по печи, – прокомментировал дедушка, а вслед за тем издал что-то вроде восхищенного хохотка, потому что не каждый день увидишь такую внушительную демонстрацию закона земного притяжения.
Мало того, что было скользко, – под каблук Александре попался какой-то камушек или круглая ледышка, что и стало причиной катастрофического падения. Она не просто села, а грохнулась на спину и, оглушенная, какое-то время не могла пошевелиться, медленно съезжая по ледяной дорожке вниз, а когда подняла голову, старик Филатов уже скрылся за сугробом, слышно было только его характерное кхеканье.
Круто начинался ноябрь, одно слово – круто!
Наконец, Александра медленно перевернулась на бок и начала подниматься на четвереньки, то и дело охая от боли в ушибленном копчике. На счастье, улица была пуста, да и занавески в окнах, отодвинутые из любопытства, вроде бы не дрожали, так что зрелище копошившейся на льду Александры, пожалуй, не нанесло непоправимого урона ее авторитету участкового врача. Хотя нет, мелькнула худая невысокая фигура. Какой-то подросток выскочил из-за сугроба, растерянно уставился на Александру и тотчас, словно испугавшись, метнулся обратно.
Ну и манеры, блин, у русского народа! Нет чтобы помочь даме подняться!
Справилась в конце концов сама. Однако стоило встать и сделать шаг, как под каблуком опять что-то скользнуло, ноги поехали вперед – и Александра, завалившись назад, снова накрепко прижалась ко льду ушибленной частью тела. Из глаз даже слезы брызнули! Не поднимаясь, она решила ликвидировать роковую помеху, пошарила под ногами…
Ну что же, некоторые дважды наступают на грабли, а она, выходит, дважды наступила на часы!
Не веря своим глазам, Александра рассматривала плоскую, эффектную, наверняка дорогую тикалку с импортной неразборчивой надписью на круглом циферблате. Часы шли и даже показывали половину второго.
Александра взвилась с такой стремительностью, словно ледяной тротуар под ней вдруг превратился в раскаленную сковородку, и понеслась вниз, к остановке автобуса, более не заботясь ни о репутации, ни о законах физики, ни о собственной безопасности.
Половина второго! Через полчаса начинается прием в поликлинике, а до нее еще надо доехать! И придется проститься с мечтами об обеде, а ведь она сегодня из-за спора с Кариной не успела позавтракать. И теперь останется голодная до позднего вечера, опять придется наесться на ночь, а потом с тоской ощупывать на себе эти лишние килограммы. Ну почему она такая принципиальная дура, что не может заставить себя выпить чаю хотя бы в одном из тех шестнадцати высоковских домов, которые посетила сегодня по вызовам? У Котовановых и Веселовых были пирожки (с мясом-рисом и капустой-яйцами соответственно), а бабуля Витрищак хвалилась оладьями с медом, привезенным аж из Дивеева… Впрочем, пирожки и оладьи с медом – это тоже лишние килограммы, а чаю ей дадут в регистратуре, пусть бы и пустого, успокоила себя Александра, вскакивая в любимый автобус номер 47 и помахивая во все стороны проездным. Усевшись в уголке, она блаженно вытянула усталые ноги и стала размышлять, что же такое «гулявица», которая семенит по печи. Сороконожка, что ли? Ну, дедуля!
Потом, уже у входа в поликлинику, Александра машинально покосилась на запястье, порадовалась, что прибежала без двух минут два, то есть фактически не опоздала, – и только тут осознала, что новые часы уже на руке. Когда успела надеть их – неведомо. Однако не сами же они застегнулись на запястье! Ну что же, «привычка свыше нам дана, замена счастию она…».
Счастию? Как бы не так!
* * *Ему пришлось звонить долго, даже очень долго, прежде чем за дверью объявились признаки жизни. Другой человек на его месте давно бы плюнул и ушел, однако он все давил и давил на кнопку звонка. Хозяин был дома, просто не хотел открывать. Гость точно знал, что он дома: не далее как четверть часа назад засек мелькнувшую меж плотно задвинутых штор полоску света. Исключено, чтобы при той патологической скупости, какой страдал этот человек, он ушел бы из дому, не выключив электричества!
Однако хозяин не только отвратительно скуп, но и мерзко терпелив. Да у него у самого уже трещит голова от этих непрерывных трелей, а тот все терпит, терпит… зубами небось скрипит, а терпит!
А может, хозяина и правда нет? То есть он в доме, но не сидит где-нибудь на кухне, треская сало, а валяется на полу в комнате с простреленным лбом или перерезанным горлом или висит под потолком на крюке от люстры с неловко вывернутой шеей?
Кстати, не исключено. Рано или поздно до него доберутся те, кто этого очень хочет, кто видит эту масляную рожу в самых страшных, окровавленных снах, – и тогда… Хотя эта сволочь, конечно, хорошо забилась в щель, так просто не сыщешь.
Он решил было дать отдохнуть своим ушам и пальцу, и в это самое мгновение даже не услышал – ощутил за дверью какое-то шевеление.
– Кто тут? – спросил настороженный голос.
– Свои! – радостно ответил гость, становясь так, чтобы его было видно в «глазок».
– Что еще за свои? Нету у меня никаких своих! – раздалось за дверью недовольное бурчание, однако «глазок» все-таки осветился, а через мгновение раздалось удивленное восклицание, и начался процесс открывания дверей.
«Вот это точно! Никаких своих для тебя нет, только чужие», – подумал гость, стоически снося лязганье замков и засовов. Создавалось такое впечатление, что открывают не квартиру, а какой-то амбар, так все гремело и ухало.
«На месте воров я грабанул бы его просто из спортивного интереса, – угрюмо усмехнулся гость. – Хотя боится он не воров…»
Как гласит вековая мудрость, все на свете когда-нибудь кончается. Окончилось и ожидание перед лязгающей дверью. Она скупо приотворилась, недовольный голос так же скупо отмерил словцо:
– Входи.
«Ну это уж ты расщедрился! – усмехнулся гость. – Тут бочком, бочком вползти бы…»
Наконец-то он проник в нору этого загнанного зверя! Ничего, хорошая нора. Трехкомнатная, просторная. Добротный и, пожалуй, дорогой мебельный гарнитур, какие-то сервизы, сервизы на полках горки… Куда столько одному человеку? Захламлено все, правда, донельзя, мебель покрыта толстым слоем пыли. И запашок, конечно, выдающийся… Обычно такой уровень запашка зовут емким и выразительным словцом – вонища. Впрочем, трудно ожидать, чтобы загнанный зверь еще и порядок наводил в своем логове…
Гость обратил внимание на стопки пыльных газет, громоздившиеся на диване, на стульях, на полу. Глаз у него был острый, да и знал, чего ждать, поэтому сразу приметил, что газеты здесь были в основном украинские и молдавские. А на русском языке – только «Казачья правда»: боевой листок, издававшийся «горсткой казачков-экстремистов» – то есть тех, кто носил штаны с лампасами и бряцал шашкой с темляком не ради одного лишь опереточного эффекта.
Гость представил себе, сколько кайфа словили бы «казачки-экстремисты», доведись им оказаться в этой квартире, – и огорченно покачал головой.
«Увы, ребята, при всем моем к вам уважении эта информация не для вас… Все, что я могу для вас сделать, это когда-нибудь потом, через некоторое время, дать вам знать – конфиденциально, разумеется, и строго инкогнито, – что самое заветное ваше желание выполнено, некий пан, вернее, домнул,[1] уже приказал…»
– Ты чего, в музей пришел? – неприветливо прозвучало рядом, и гость увидел «некоего пана, вернее, домнула», который подозрительно уставил на него свои на диво большие и красивые карие глаза, одним словом, очи: влажные, в круто загнутых длинных ресницах и под соболиными бровями. Да и губы были под стать очам: совершенно девичьи, вишневые, пухлые. Все прочее выглядело, как бы это помягче выразиться, довольно хреново. Очевидно, господь бог, или кто там еще на небесах распределяет по людям красоту, малость подустал, забылся и ляпнул прельстительные глазки, брови и ротик на угреватую, сальную морду прирожденного убийцы.
«Полегче! – одернул себя гость, вдруг ощутив, что стал как-то подозрительно часто дышать, а руки сами собою стискиваются в кулаки. Он их даже сунул в карманы, чтоб не поддаться искушению. – Тебе ведь и нужен такой тип: убийца и в то же время трус!»
– Слушай, чем это у тебя, извиняюсь за выражение, так воняет? – спросил он, брезгливо морщась, и чуть не захохотал, когда очаровательный ротик хозяина обиженно скривился:
– Воняет? Та ты шо, сказився? То ж я кушаю. Сало жарю!
Слово «сало» он произнес по-особому нежно, врастяжку, как бы даже с придыханием: «С-са-а-ало…» И гость, который успел послужить в армии еще во времена «Союза нерушимого», когда в одной казарме проходили муштру все представители многонациональной семьи братских народов, вдруг вспомнил, как в дни увольнительных, праздников там разных и выходных, когда прочие солдатики разбегались по киношкам-свиданкам, украинская, не побоюсь этого слова, диаспора уединялась в каком-нибудь укромном уголочке, например в сушилке. Русские называли этот процесс так: «Тиха украинская ночь, но сало трэба заховаты!» Хохлы выставляли на стол посылки родни, доселе надежно захованные от боевых товарищей, и начинали пластать ножиками желтоватые, крупно посыпанные серой солью и щедро утыканные зубчиками чеснока куски «настоящего украинского сала» с темно-бордовыми, почти черными, как запекшаяся кровь, прослойками мяса. И часами они жевали его, молотили челюстями, а то и глотали жадно, не жуя, – жрали, тупо уставив в угол свои «карие очи» и сыто рыгая…
– А, сало, – хрипло сказал гость, с трудом одолевая приступ тошноты. – Ну, ты уж извини, потом докушаешь, ладно? Мне с тобой поговорить маленько надо. По важному делу.
– А шо такое? – насторожился хозяин.
– Да есть тут до тебя одна невеликая просьба, Хведько Сыч… – обронил гость и едва не засмеялся от наслаждения, увидав, какая судорога прошила вдруг это упитанное, сальное тело, как побледнела толстощекая морда.
Жирная ладонь скользнула под полу заношенной спортивной фуфайки, но гость насмешливо качнул головой:
– Не дергайся. Ты что, думаешь, я сюда один пришел?
На самом-то деле он был один. Но брезгливость и отвращение, вызываемые в нем этим отродьем человеческим, были столь сильны, что для страха места просто не оставалось.
– Чого ты хочешь? – со своим неистребимым акцентом спросил Сыч, медленно вынимая пустую ладонь. – Видкеля прознал?
– Ну-у… – Гость пожал плечами. – Мало ли! Например, посмотрел на эту фотку и думаю, мать честная, знакомые все лица…
Он сделал эффектное движение рукой, как фокусник, который выбрасывает козырную карту из рукава, однако на запыленный стол вылетела не карта, а карточка – фотоснимок. На самом деле знакомым гостю было не все, а только одно лицо из трех изображенных. Это было лицо Сыча – лет на десять помоложе, малость поубористей размерами, однако такого же губастого и глазастого. Правда, волосы его тогда не прилегали к черепу жиденькими прядками, а вились тугими, жирными кольцами. Два других лица под смушковыми казачьими папахами были настолько обезображены страданием и окровавлены, что казались схожими, как лица двух мертвых, замученных близнецов. Их отрубленные головы были насажены на колья, а держал колья в обеих руках, выпятив грудь и красуясь, словно силач на помосте, не кто иной, как Сыч.
– Вспоминаешь солнечное Приднестровье? – негромко спросил гость, невинно улыбаясь.
Сыч не издал ни звука, только неопределенно мотнул головой.
– Если ты поднимешь подшивки «Казачьей правды», кои так бережно хранишь, то непременно наткнешься на этот снимок. Оригинал я получил в редакции, – пояснил гость. – А еще – исчерпывающее досье на гражданина Украины Хведора Хведоровича Сыча, за совершенные преступления разыскиваемого и на родимой Хохляндии, и в несчастной Приднестровской республике. Правда, ищут его не столько органы правопорядка, сколько обуреваемые жаждой мести казачки, которых когда-то немало-таки положил ций гарнесенький хлопчик. Единственно, где Сыч мог бы чувствовать себя национальным героем, это в Молдове, во имя территориальной целостности которой он и пролил немало казачьей кровушки, а также кровушки жителей поселка Приречный. Семьями вырезал он там народ, кварталами, улицами…
В горле гостя что-то заклокотало, однако он подавил приступ тошноты и с прежней холодноватой, как бы отстраненной улыбочкой продолжал:
– Но там его быстренько растерзали бы в клочки, и пошли бы те клочки по закоулочкам… Поэтому он поступил совершенно правильно, скрывшись на бескрайних российских просторах. Ни в редакции «Казачьей правды», ни в штабе движения «Вольница казачья» никто и знать не знает, что Хведько Сыч ныне называет себя Федором Сычовым и трудится в скромной должности фельдшера Нижегородской районной подстанции «Скорой помощи». Повторяю, об этом не знает никто, кроме меня…
Гость сделал крохотную паузу и в этот миг испытал чувство, схожее с тем, какое испытывает человек, ступивший на тонкий лед и ощутивший, как он гнется, дрожит под ногой: проломится или нет? Рука Сыча снова скользнула под полу куртки – и снова безвольно упала, когда гость договорил:
– И еще тех троих, которые ждут меня около твоей двери. Так что не надейся – мою голову тебе нацепить на древко не удастся. И не тяни ручонки под мышку, будто у тебя чесотка, не дергайся. Что там? Пистоль? Или твой знаменитый булатный ножичек по прозвищу Кащей? Кстати, а правда, что на вашей дурацкой мове «Кащей бессмертный» – «Чахлик немрущий»?
Мгновенное сверкание карих очей заставило его усмехнуться:
– Повторяю, не дергайся, Сыч. Сейчас я скажу тебе кое-что очень смешное. На самом деле мне на все это, – он брезгливо кивнул на страшную фотографию, – совершенно наплевать. И мне, и тем, кто работает вместе со мной…