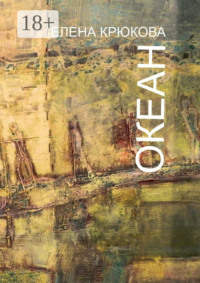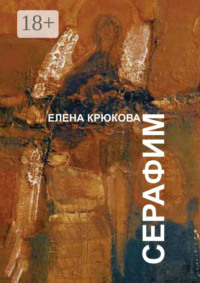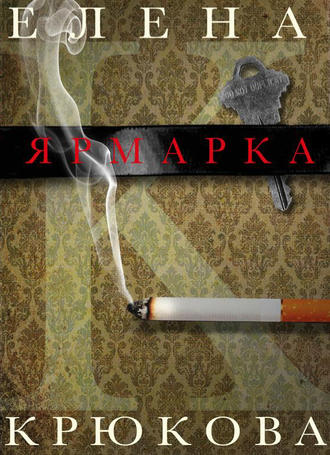
Полная версия
Ярмарка
– Что вы кричите? – сказала первая дама, не поднимая головы. – Потише.
– Возьмите письмо, и я уйду, – сказала Мария очень тихо.
Нить оборвалась внутри, и она поняла: ничего тут не выйдет.
Первая дама подняла пышноволосую голову, крашеная копна дрогнула. Мария поразилась тому, как зазывно, первобытно размалевано уже стареющее, в морщинах, толстое, надменное лицо. «Не лицо, а рожа. Лицо – зеркало чего? Сердца? Матки ее? Тогда она проститутка».
Дама небрежно протянула толстую руку, не глядя на Марию. Пухлые пальцы унизаны перстнями. Золотыми, с крупными кабошонами. Как у торговки на рынке. Попугайский, крючком, нос дамы брезгливо дрогнул; жирный подбородок тоже дрогнул, без слов говоря: ох и надоели всякие!
Мария опустила руку с письмом.
– Давайте посмотрим друг на друга, – сказала она так же тихо.
И тогда крючконосая дама перевела глаза на Марию.
Густо намазанный кроваво-алой помадой рот раскрылся. Язык задрожал в нем языком пламени. Спокойно, говорила себе Мария, стоять, не упасть. Ей стало страшно и смешно. Глаза первой дамы походили на два белых бурава. Они просверлили Марию до костей.
– Давайте ваше письмо, – проронила дама надменно, как царица. – Что у вас?
– У нас дом сгорел.
Мария переступила с ноги на ногу.
В кабинете стояли два мягких, обитых тонкой кожей, просторных дивана.
Сесть ей не предлагали.
– Дом сгорел? – Дама зевнула, даже не прикрыв рот ладонью. Ее зубы блестели, как лакированные. – Давайте письмо сюда, что вы ждете!
Мария шагнула ближе и положила письмо на стол.
– Здесь подписи всех жильцов, – сказала Мария. Она опять пыталась поймать глазами глаза первой дамы.
– Хорошо. Я передам, – лениво сказала дама и рассеянно передвинула бумаги на столе.
Мария стояла, молчала, ждала.
Первая дама снова норовисто, но уже не лениво-кокетливо, а гневно, рассерженно вскинула голову-копну.
– Ну что вы ждете? Идите, – сказала она.
Мария пошла к двери.
Вторая дама продолжала бессмысленно копаться в бумажной горе.
– Зарочка, не покушать ли нам? Я горячего чайку хочу! Я из дома царского вареньица принесла, и бутерброды с язычком, м-м-м! – сказала первая дама, когда Мария открывала дверь.
Я подам на них в суд. И на тех, кто поджег!
Я подам на них в суд… и на тех, кто поджег…
Никуда и ни на кого ты ничего не подашь. Проглоти слезы и иди. Иди, ступай крепко, жестко по снегу, вот так. Вот так.
4– Лука килограмм, пожалуйста! Да все, хватит…
– Тут меньши кила-грамма, женщына.
– Ну и хорошо. Так. Картошки сетку… Хорошая?
– Ну какая же зимой ха-рошая картошка, женщына. Вешаю?
– Да, да…
– Шис-дэсят рублей.
– Еще вилок капусты. Не надо! Я сама выберу.
– Не придирайся, женщына. Вот ха-рошая.
– Да, да, спасибо. И еще… чесночка головку.
– Пат-надцат рублей.
– Что так дорого? Может, за десять отдадите?
– Бэри, Бог с та-бой!
Мария бросила в кошелку головку чеснока. Ремни кошелки врезались в ладонь.
Рынок, рынок. Вечный рынок. Все продается и покупается.
И этот лоток с овощами на улице – тоже рынок. Чеченка – или грузинка – или узбечка – продает, а Мария покупает. Кто их собрал, овощи? Кто по дорогам вез? Все это входит в цену еды, что ты купила. А съешь ты это все так быстро.
Не только ты. Еще старики погорельцы, которых ты сейчас должна кормить.
Они тебе пенсию свою суют, но ты не бери. Это стыдно.
Мария протянула торговке деньги. Смуглая косоглазая бабенка лихо подмигнула ей и ловко запрятала купюру под фартук, на живот.
Высыпала мелочь Марииной сдачи на протянутую ладонь.
Деньги, бумажки, кругляшки. Люди играют в деньги уже целую вечность. Когда они перестанут быть детьми? Когда – вырастут?
– Еще двадцать рублей, – сказала Мария, держа перед торговкой раскрытую, с мелочью, ладонь.
Торговка сделала вид, что сильно расстроилась.
– Ах-вах-вах-вах! – притворно-отчаянно закричала. – Извини, женщына, Бога ради! Это у миня калькилятер ебаный! Я тибя – нечайно наебала! На, держи! Вах, толька не ругайся!
Выхватила из-под живота бумажки. Сунула в Мариину руку.
Марии отчего-то стало ее жалко, до боли.
Мария едва успела отойти от овощного лотка, как ее кто-то схватил за локоть.
Она обернулась. Ба! Старая знакомая. Училка, с которой в школе когда-то…
– Сонечка, привет!
– Привет, мать! – Сонечка схватила Марию за плечи, вертела, хохотала. – Ну ты посвежела, мать! В школе – хуже выглядела… Была старушка, стала молодушка!
– Ну, ты скажешь тоже…
Мария поставила тяжелую кошелку на заледенелый тротуар.
Сонечка, оплывшая, как парафиновая хозяйственная свеча, баба лет шестидесяти, выпалила в лицо Марии с ходу:
– Машуль, порепетируй одного ученичка! Ты где сейчас работаешь? Время свободное есть?
Мария опустила голову. Ей не хотелось говорить Сонечке про лопаты и метлы.
И про свой сгоревший дом.
– Есть.
– Ученичок богатый. В смысле, сынок богатеев. Золотая молодежь, х-ха! – Сонечка показала в улыбке черную пустоту между передними зубами. – Мне просто некогда, я работы выше крыши нахватала! Вздохнуть некогда! Телефончик дам? У них дом на Славянской. Трехэтажный особняк. Мать их! Жопы золотые! – Сонечка покопалась в кармане, выдернула из записной книжки листок, стала карябать ручкой телефон. – Паста замерзла на морозе! Ах ты…
– Ты процарапай, – сказала Мария. – Продави. Я разберу.
– У них собака, Машуль, знаешь, лучше нас с тобой ест! – хрипло засмеялась Сонечка. – Из серебряных мисок! С собакой – осторожней. Бульдог!
– Мальчик поступать куда будет? – спросила Мария, сунула листок в карман и подняла кошелку с тротуара. – Вставь зуб-то, Сонька, передний ведь!
– Это любовник мне выбил! – гордо похвасталась Сонечка и по-мальчишьи свистнула в дырку от зуба. – Напился и приревновал! На юридический он будет поступать, на платный! Еще одного адвокатика богатого сделают!
Старуха Лида спала у Марии в кладовке: на ванну настелили доски, притащенные из сарая, положили старое Петькино пальто и старый Мариин плащ, и так Лида спала.
Старик Матвеев спал в Петиной спаленке, вместе с ними. На Петиной кровати. Мария и Петя спали на полу, на одном матраце, валетом. Укрывались куртками и шубами. Старая одежка хранилась в кладовке, потому не сгорела.
Мария почистила овощи. Разожгла, растопила буржуйку. Спасибо тебе, печка, спасительница. Черная труба высовывалась в окно, в приоткрытую форточку. Пламя теплым воздухом, из открытой дверцы, целовало ее замерзшее лицо, заледеневшие руки. Мария прислонила ладони к черным стенкам буржуйки.
Грейся, грейся… Тепло, как хорошо и тепло…
Погрела руки. Накрошила в кастрюлю овощи. Вышла с кастрюлей во двор.
Пошла к водонапорной колонке. С силой нажала на рычаг. Ждала, пока струя воды не пробьет морозную корку.
Вода хлынула; наполнила кастрюлю.
Мария вернулась в дом. Поставила кастрюлю прямо на железный верх буржуйки. Открыла дверцу печки; глядела на горящие доски, на драгоценные яхонты мерцающих углей. Жар шел от буржуйки, разливался по спаленке.
Был еще не поздний вечер, но старики спали. Спала Лида на ванне в кладовке; слышно было – похрапывала. Старик Матвеев спал тихо, на кровати, подогнув под себя длинные, костлявые ноги. Старый конь устал. Сморился.
Они оба почти все время спали – чтобы не плакать. Не видеть мир, что под конец посмеялся над ними золотыми зубами огня.
5– Раздевайтесь, раздевайтесь! – Слова были любезны, а моложавое, кормленое дорогими кремами, длинное, как у лошади, лицо – равнодушно. – Вот сюда курточку повесьте! У вас сменной обуви нет? Вот тапочки… ваш размер?
На полу стояла шеренга роскошных, расшитых золотом и жемчугом, пухом и мехом, красивейших тапочек. Мария застеснялась и быстро всунула ноги в первые попавшиеся.
– Мария… как вас?..
– Васильевна.
– Мария Васильевна, проходите, пожалуйста! Вы ведь у нас в первый раз?
Да ведь она прекрасно знает, что в первый. Что ж спрашивает?
– Проходите, я вам покажу дом! Вот это у нас прихожая… Осторожно, чтобы вас фонтанчик не обрызгал…
Смешок вылетел из длиннозубого, лошадиного рта. Мать ее ученика была еще молода и очень некрасива.
Мария огляделась. У нее закружилась голова. Стены были отделаны цветным мрамором – кроваво-мясным, иззелена-змеиным. Рядом бил фонтан. Радужные струи с легким шумом падали в дрожащий золотой дрожью, будто живой, бессейн. На мраморном бордюре горела цветная подсветка. Марии казалось – она вошла в детскую сказку, в волшебный дворец.
За маленьким бассейном виделся огромный, плавательный. Изваянные животные, козлы и газели, весело скакали вдоль выложенных яркой мозаикой стен. Со стен на Марию глядели нимфы и нереиды, плескались синие дельфины, из волн вставала нагая баба, держала в руках жемчужное ожерелье.
Хозяйка глядела насмешливо, как Мария смотрит на мозаичную богиню.
– Вот здесь мы плаваем, – весело сказала тетя-лошадь. – Для здоровья. Тимочка такой слабенький мальчик. Ему нужны постоянные водные процедуры. Здесь, на первом этаже, у нас столовая… И каминная…
Мария заглядывала в огромную, как танцзал, столовую; дивилась на прозрачные, будто хрустальные, столы; на сиянье белоснежной посуды; заглядывала в уютную, увешанную медвежьими и волчьими шкурами каминную. Чуть не уронила китайскую, расписанную, наверное, тончайшей кисточкой, большую, как лодка, вазу.
Распятые звери, простите людям. Простите.
– Эпоха династии Тан… антикварная… – Хозяйка облизнулась, будто съела ложку варенья. – Пойдемте, поднимемся!
Было видно, как ей приятно показывать свой богатый дом нищей училке.
Мария послушно шла за хозяйкой по мраморной гладкой лестнице. Заскользила, чуть не упала. Ухватилась за мраморные перила, обожгла холодом руку.
По стенам, в нишах, везде висели картины. Живопись.
Красивые картины. У Марии от их красоты немного закружилась, как от водки, голова. Вот раковина с перламутровым, вывернутым чревом. Вот огромная синяя ваза с кучей цветов: лиловая морская волна ирисов, лед белой сирени, пожар пышных пионов. Пожар. Она на миг закрыла глаза.
– Вы разбираетесь в живописи? – Тете-лошади и не нужно было ответа. – Это самый наш модный художник. Каждая его работа стоит… ну-у, я не буду говорить вам, сколько это стоит!
Сколько же стоит тогда весь твой дом, подумала Мария.
Они поднялись на второй этаж. В текучем, как река, паласе утопали ноги.
– Вот здесь кабинет мужа… Вот здесь детская… Вот тут моя спальня… А это спальня мужа…
– У вас разные спальни? – грубо и глупо брякнула Мария.
– Мария Васильевна! – Выщипанные брови хозяйки поползли вверх, потом она вежливо, изящно рассмеялась. – У нас есть еще и третья спальня, и четвертая! А как же! Для нас, для гостей… У нас есть и гостевая комната! И кофейная! И еще – рабочий кабинет для Тимофеюшки! И еще – зимний сад, он на третьем этаже! И – домашний кинотеатр…
– Третий этаж я смотреть не буду, – сказала Мария.
– Вы устали? Голодны? Вы пообедаете со мной? – наигранно-весело сказала тетя-лошадь. – Тогда спустимся вниз. Кухня на первом этаже. Ах, я забыла показать вам еще баню! Сауну! И котельную!
В кухне тети-лошади можно было потеряться – так велика она была. Все сверкало тундровой белизной. Мрамор, керамика, эмаль, светильники – все било в глаза, чистотой и роскошью сияло. У плиты хлопотала хорошенькая, как с обложки глянцевого гадкого журнала, девочка в белом, обшитом кружевами фартуке. Девочка, отклячив изящный задик, ловко вытаскивала из духовки противень с маленькими, как птички, пирожками. Потом снова наклонилась – и засунула в духовку вертел с наколотой на него куриной тушкой.
– Налей нам вина! – крикнула хозяйка, никак не обращаясь к кухарке.
– Какого, Татьяна Павловна? – с готовностью обернулась девочка.
– Ты знаешь! Французского. Я аргентинские и чилийские красные вина не люблю, хоть они сейчас и в моде!
Темная бутылка в тонкой руке девочки летала, порхала над длинными стеклянными бокалами. Разлив вино, она так же ловко и быстро зажгла две свечи в странных, никогда Марией не виданных светильниках, и по кухне растекся тревожащий, сладкий запах.
Тетя-лошадь взяла бокал и, прищурясь, придирчиво рассмотрела вино на просвет.
Девочка без звука, бесшумно, расставила на стеклянном столе обеденные приборы. Подала супницу. Разлила дымящийся суп серебряным старинным ополовником. «Тоже антикварный…» – подумала Мария. Она страшилась взять в руки старинную серебряную ложку.
– Фамильное серебро? – спросила.
– Не-ет! – закинула в хохоте голову хозяйка. – Муж из Италии привез! С аукциона… Вы ешьте, ешьте, Мария Васильевна! Черепаховый, между прочим, супчик! Тортю, как раньше говорили!
– Чере…паховый? – Мария все-таки взяла ложку, осторожно, как скорпиона. – А, извините… хлеб вы к обеду не…
– Я не ем хлеба! – гордо вскинула голову тетя-лошадь. – Я – худею! В нашем доме все едят без хлеба! – Повернулась к кухарке. – Подай второе!
– Сразу? – подобострастно улыбаясь, чуть приседая, спросила девочка в фартучке.
– Да. И уйди!
Девочка вытерла руки о полотенце и мигом убежала.
Хозяйка подняла бокал.
– За успех моего Тимоши! – мечтательно сказала, закрыла глаза и отпила половину бокала. Мария тоже пригубила терпкое, чуть горьковатое вино.
«У кухарочки же есть имя», – подумала Мария, зачерпывая ложкой черепаховый суп.
Вкусно было необыкновенно. Голова закружилась еще сильнее.
Тетка права, она и правда голодна. Надо есть. Но не жадно. Не быстро. Так. Вот так. Еще медленнее. Еще…
Все равно ее тарелка уже опустела, когда хозяйка еще возилась с супом и странно, совсем не аристократически, а как-то по-свинячьи причавкивала над ним.
Перед ней стояла огромная серебряная тарелка со вторым блюдом. Мария бессмысленно поскребла ногтем металл драгоценной посудины.
– Да, да, серебро высшей пробы! – Хозяйка снова отпила вина, уже одна, без Марии. – Кушайте, пожалуйста! Свининка, фаршированная грибами! Немецкий рецепт! У меня муж в Германии…
Дверь открылась сама собой, и Мария вздрогнула.
Чап-чап, царап-царап – застучали по полу когти.
Мария опустила глаза и увидела: громадный черный пес, бульдог, в расшитом серебряными блямбами ошейнике, настороженно глядя перед собой выкаченными глазами и потряхивая слюнявыми брылами, идет к ним, к столу.
– Ах ты моя душенька! – закричала хозяйка умильно. – Ах ты мой сладенький! Чарли! Чарлушенька!
Чарли близко, очень близко подошел к женщинам за столом – и сел, и уставился на Марию. От избытка чувств раскрыл пасть и пустил слюну. Слюна свисала у пса с зубов длинными серебряными нитями. Он издал кряхтение: «Гха-а-а» – и вдруг положил тяжелую башку на колени Марии.
Мария сидела без движения. И без дыхания.
– Не бойтесь, – довольно сказала хозяйка, – он не укусит. Он вас признал! Чарлушенька, голубчик! Поди поешь.
Пес снял голову с колен Марии и, цокая когтями по гладкому, выложенному белой плиткой полу кухни, побрел к своим мискам.
Миски не стояли на полу. Они висели на черном штыре над полом – большие, тоже, кажется, серебряные. В мисках возвышались горы еды.
Горы мяса, рассмотрела Мария.
Настоящего, хорошего мяса. Вырезки. Не костей.
– Поешь, моя собаченька! – пела хозяйка.
Мария украдкой вытерла ладонями обслюнявленную псом юбку.
– А где Тимофей? – спросила она.
– Сейчас придет, – беспечно ответила тетя-лошадь. – Он на тренировке, в фитнес-центре, потом он у меня ездит верхом! – Ее глаза любовно заблестели. – Отец ему коня купил! Такой красавец конь! Загляденье. И уздечку, и седло, и всю сбрую! И даже – плетку! Что же вы не едите свининку? Грибочки, между прочим, не так себе… трюфели… Вы знаете, сколько стоит один такой грибочек?..
Мария поперхнулась. Закашлялась. Хозяйка выдернула из вазочки салфетку и брезгливо подала ей. Мария выкашлялась, утерла рот, отодвинула тарелку и сказала:
– Спасибо. Очень вкусно.
«То, что я не доела, Чарли отдадут». Мария повернулась и поглядела, как ест собака. Черные вислые яйца пса блестели, как черные лампы.
Мария все-таки дождалась мальчика, хотя тот появился через два часа после обеда. Хозяйка утомилась развлекать репетиторшу, оставила ее в кресле с глянцевым журналом, а сама удалилась в сауну: «Пойду попарюсь! Здоровье прежде всего!»
Но в баню – с собой – не пригласила…
Еще чего, будет она всякий сброд с собой – в роскошную баню – приглашать…
А мы – сброд для них?..
Ну да, как же. Конечно, сброд…
Но мы кое-что умеем и знаем, то, чего не умеют и не знают они, и они без нас – не могут…
Мальчик появился, и Мария поразилась его худобе, нежности, показной грубости, дрожащей беззащитности юности, взращенной в богатой теплице. «Тимофей! – выдохнул он, сдвинув каблуки, как суворовец. – А вы… Марья Васильевна?.. очень приятно». Богатый, а такой худенький, с жалостью подумала Мария.
Они вдвоем уселись за огромный, как плот, стол в его «рабочем кабинете». На столе сидели куколки, много игрушечных лохматых человечков: и девочки, и мальчики. Ребенок, он же еще ребенок, а его – в бассейн, в спортзал, на коня, носом в книжку, носом – в постель… Так же, носом в девочку, тоже богачечку, и выдадут замуж… тьфу, женят, конечно…
Ты из русских писателей кого читал, устало спросила Мария. Тимофей пожал плечами. Молчал.
Глядел на ее тяжелые, рабочие, с синими ветвями вен, большие руки, лежащие на мраморном, в пламенных, огневых узорах, гладком как зеркало столе.
Мария ждала, ждала терпеливо.
Она не так задала вопрос. Она поправилась.
В смысле – любишь кого, уточнила.
«Пушкина», – сказал мальчик тихо, как ей показалось, насмешливо.
Потом Мария много правильного говорила, а мальчик, вынув из ящика стола аккуратную тетрадочку, быстро писал.
Когда они уже заканчивали, в комнату вошла распаренная, краснолицая хозяйка. Вокруг ее головы был наверчено ярко-красным тюрбаном полотенце. От нее хорошо, пряно и свежо, пахло.
– Два часа уже работаете! – бодро бросила она.
«Сказала, будто плюнула», – подумала Мария.
Она встала, огладила на коленях юбку.
– Деньги вам сразу? – брезгливо и вместе покровительственно спросила хозяйка. Ее лошадиный рот дрогнул и обнажил в вежливой улыбке длинные зубы.
Мария покраснела. Кровь забилась у нее в висках.
– Сразу, если можно.
Хозяйка подошла к шкафу, небрежно выдвинула ящичек, не глядя, выхватила несколько купюр, так же не глядя протянула Марии.
И Мария взяла эти деньги, взяла послушно, покорно, как пес берет у хозяйки еду из пахнущих французским мылом рук.
Мялась в смущении. Не знала, куда положить.
Хозяйка, как на подопытного кролика, глядела на Марию, лошадино, нагловато улыбалась.
– У меня сумочка в прихожей осталась, – сжимая деньги в кулаке, с красными как помидорины щеками, сказала Мария.
Когда они уже топтались в прихожей, и Мария надевала куртку, и журчал за спиной фонтан, роняя длинные струи в бассейн, Мария неожиданно для себя сказала хозяйке:
– Вот у вас картины… Знаете, я хотела бы… У меня есть художник один знакомый. Очень хороший художник. Просто превосходный. – И опять краска залила ей щеки: она слишком сладко, приторно хвалила Федора. – У него есть одна картина, так она вам очень подойдет. Вашему дому.
– Что за художник? – спросила тетя-лошадь так, будто говорила: «Знаем, знаем, какие у тебя, нищенки, могут быть знакомые художники». – Известный? У него есть выставки, каталоги? У кого он в коллекциях?
– И выставки есть. И каталоги есть. – «Только денег нет». Она вскинула выше голову. – У него одна работа даже… в коллекции королевы английской.
– Хм! – сказала тетя-лошадь.
– Можно, он принесет вам картину, покажет?
– Что за картина? – Хозяйка склонила голову набок, как птица, и полотенечный тюрбан мягко свалился у нее с головы; она успела поймать сырое полотенце, набросила себе на плечи. Мария глядела на ее жиденькие, мокрые, веревочные волосенки. – Может, я лучше подъеду к нему в мастерскую? Где у него мастерская?
Мария чуть не зажмурилась от ужаса, представив пещерный подвал Федора.
– Нет-нет, он сам привезет, – выдохнула она торопливо, готовно. – Он… ему так удобнее.
– А, ну да, на машине, да…
«Пешком через весь город попрет». Мария постаралась красиво улыбнуться.
– Да.
– А что изображено? А называется как?
– «Песочные часы». Три женщины… три женских торса. На фоне пустыни… золотого песка… Женщины – сами – как песочные часы… Время в них течет… И песок. Женщины нагие, смуглые, груди вперед, талии тонкие, бедра широкие…
– Очень эротично, – прищурясь, – процедила хозяйка. – Пусть привозит. Оценим. И, может, купим. Какой у вашего мастера размах цен?
– Что, что? – переспросила Мария.
Хозяйка поморщилась.
– Это как вы сами решите… как договоритесь, – поправилась она.
Где-то далеко, в комнатах, весело взлаивал слюнявый бульдог Чарли.
6– Федя, Фединька!..
– Что ты, что ты, Маруська моя… И кулаком стучала в открытую дверь…
– Фединька, вот адрес, вот бумажка…
– Да что ты, душа моя, как заполошная… Куда бежишь?.. И не пройдешь?..
– Фединька, срочно по этому адресу иди, картину бери и иди…
– Да какую картину, что ты, Машулька, спятила?.. ух, безумица моя…
Целовались жадно, опять стоя, в темноте, опять как ночью на вокзале, будто на поезд опаздывая.
И правда: время уходило, утекало, убегало, как поезд.
– Неси «Песочные часы»… Там баба одна, ух какая богатая… Муженек у нее – вор в законе, что ли, такие апартаменты, в центре города, на Славянской… Прямо сейчас иди!.. Картину заворачивай в бумагу, в тряпку какую-нибудь – чтобы снегом не побило, не промокла – и иди… Ступай, говорят тебе!..
Пили друг друга, как воду холодную, вкусную, в пустыне.
Задыхались.
– Сейчас, сейчас… Иду, иду…
Федор, прежде чем войти в огромный, роскошный, богатый дом, выкурил перед подъездом две сигареты. Бросал окурки под ноги, в пухлый, нападавший за вечер снег, давил подошвой старого ботинка. Да-а, ботиночки… Да-а, художничек… Не светский лев, нет. А друзья твои – все светские львы, что ли? Да таких, как ты…
Не додумал. Схватил золоченую ручку дверную, зло, с силой рванул на себя.
Хозяйка обсмотрела его мгновенно, все сразу поняла – и то, как дрожащими руками разворачивал холст, согнувшись над ним, как над больным ребенком, выпрастывая из старой грязной тряпки; и то, какие башмаки тертые, худые; и то, что зубов во рту раз, два и обчелся, будто цынгой на севере болел; но когда он освободил полотно от тряпок, она не сдержалась, втянула воздух: «О-о!»
Свет с холста ударил в них обоих, как если бы от входа в пещеру откатили камень, и солнце брызнуло в чахлую тьму.
– Сколько вы за нее хотите?
Хозяйка уже знала, что художник ответит.
Федор переступил с ноги на ногу. Еще раз переступил.
– Да, это… Сколько вы дадите…
Хозяйка усмехнулась.
– Хорошо. Подождите тут.
Федор стоял в прихожей, вцепившись в подрамник. Хозяйка ушла. Он остался один и завертел головой, рассматривая фонтан, бассейн, живопись на стенах, роскошные, алмазно играющие люстры на потолке.
– О-е-о-о-ой, – тихо бормотнул себе под нос, – ни хрена себе домулька…
У него заломило скулы от чужой роскоши. От созерцания иной жизни, которой он не будет жить никогда.
Захотелось скорее убежать отсюда. И больше никогда не приходить.
Вошла хозяйка. Несла в пальцах конверт. Брезгливо, как дохлого паука.
– Ваш гонорар, – сказала тягуче, в нос, манерно.
Федор взял – и чуть было не поклонился.
– Спасибо, – сказал. – Пусть моя работа тут…
И оборвал, повернулся и к холсту, и к хозяйке спиной, и вышел, в смятении забыв попрощаться, сгорая то ли от стыда, то ли от радости, то ли от чего другого.
На улице валил снег. Федор, закрывая огонь спички рукавом и ладонью, закурил с облегчением. Долго, жадно втягивал, всасывал дым. Дым как снег, подумал, все курится и курится, все идет и идет. А когда-то сигарета докурится. И другой – не раскурю.
Он сунул руку в карман. Вытащил конверт.
И опять сунул в карман. Ему не хотелось глядеть, сколько ему – сунули. Сколько он на самом деле стоит.
А когда уже прошел мимо старой ели и подходил к дому – понял сердцем, что Мария здесь, что не один он сейчас будет; и быстро скатился вниз по лестнице, и толкнул дверь, и да, да, она была уже здесь – и топила печь, дрова в печную глотку накладывала, кормила ее.
Мария подняла голову.
«Разрумянилась, красавица…»
– Машка! Машка…
Он видел, как она улыбается. Он так любил эту ее счастливую улыбку.