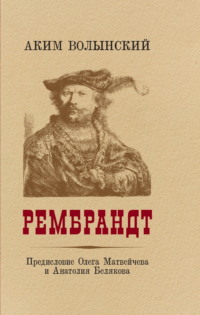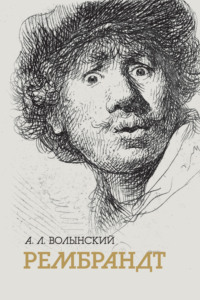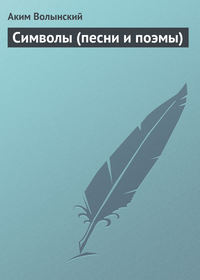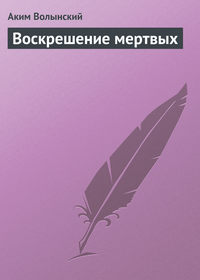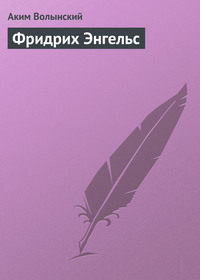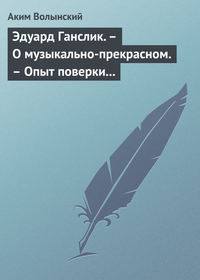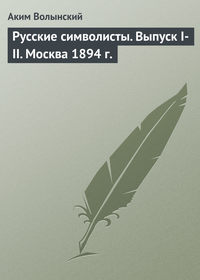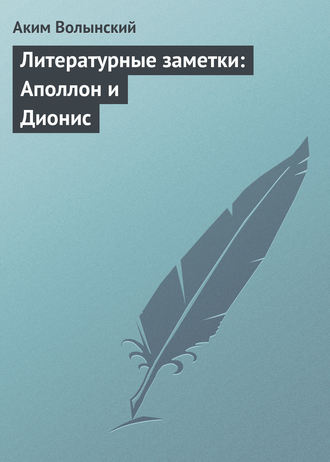 полная версия
полная версияЛитературные заметки: Аполлон и Дионис
III
Продолжим изложение философского анализа Ницше.
С течением времени мифический элемент стал исчезать из греческой трагедии. Новые силы рассудочно-теоретического характера вошли в греческое искусство, разрушая в нем основу всех основ, дионисовскую идею мира. Трагическое безумие заменилось тем языческим весельем, которое оскорбляло первых христиан своею пошлостью и отсутствием внутреннего метафизического такта. Из греческой трагедии, именно под воздействием рассудочной культуры, должен был исчезнуть тот музыкальный дух, который неразлучен с представлением о Дионисе. Ницше долго останавливается на характеристике Эврипида, который, по его мнению, довел трагическое искусство до полного упадка. Следуя философии Сократа, Эврипид не мог не разойтись с лучшими традициями греческого искусства. В его произведениях мы постоянно встречаемся с холодной рассудочной мыслью вместо художественного созерцания в духе Аполлона и с пламенным чувством вместо вакхического экстаза в духе Диониса. Принципы новой школы овладели его могучим талантом, Сократ давил его своим авторитетом. Не останавливаясь ни перед какими затруднениями, Сократ учил и просвещал греческий народ знанием ради знания. Все несчастья, говорил он, проистекают от невежества, добродетель есть знание, добродетельный человек самый счастливый в мире, – и в этих трех формулах его оптимистического миросозерцания заключается, по словам Ницше, смерть всякого искусства. Требуя от своих учеников, чтобы они воздерживались от нефилософских удовольствий, Сократ становится в самую враждебную оппозицию к эллинской трагедии. Горячий полемист, он начинает собою новую эру научного оптимизма в жизни европейского человечества, так как в диалектическом процессе каждое заключение выступает торжественно и уверенно, в холодном воздухе сознательности и полного понимания. Эта диалектика, овладевая царством Диониса, должна была мало-помалу превратить греческую трагедию в буржуазное представление для толпы. Противополагаясь всему таинственному и мистическому, она должна была вытеснить то, что делает греческое искусство цельным выражением эллинского духа, в его самых сокровенных движениях и настроениях. Но с оптимистическою наукою, горделиво соединяющею в одну неразрывную цепь свои рассудочные заключения, находится в полной дисгармонии дионисовская музыка, неотделимая от греческой трагедии. Вакхический напев сопровождает каждое явление, происходящее на сцене. К событиям, совершающимся в среде индивидуальности, трагическая музыка присоединяет мировую тайну. Ничего не описывая, она не становится на место частных фактов. Не подражая явлениям, она не воспроизводит их никакими условными звуками, потому что ее задача заключается только в том, чтобы напомнить о трагической бездне, чтобы возбудить в человеке глубокие настроения, открытые для правды. Возрождая душу к новой жизни, скликая к ней целый мир таинственных теней, она при этом не дает ей никаких конкретных материалов с улицы. Божество в непосредственном проявлении, в крике, в шуме, в стихийном движении сил природы, музыка не действует никакими аллегорическими знаками. Именно потому, что она открывает пред нами не пестрый и призрачный мир явлений, а причину и конец всякой жизни, ее трагическую бездну, она выше других искусств.
Это противоположение пластического искусства Аполлона и музыкального искусства Диониса открылось с полною ясностью в новейшей философии. Ницше указывает на Канта и Шопенгауэра, как на людей, которые победили оптимизм рассудочно-теоретического мышления. Обнаружив призрачность явлений, они совершили великий переворот, направивший культуру народов единственно верным трагическим путем. Новая философия показала, что цель человеческой жизни не знание, а мудрость, которая созерцает природу в целом, в ее таинственной борьбе личных и мировых начал, которая встречает в ней всякое страдание сочувственным ощущением, как свое собственное страдание. С научной определенностью она отделила мираж явлений от его реальной причины, и тем открыла перед человеком в новом свете вечные горизонты. Искусство, основанное на философском идеализме, станет со временем таким же великим религиозным делом, каким была для греков художественная трагедия Эсхила и Софокла. Снова расцвела настоящая музыка, потому что за Кантом и Шопенгауэром неизбежно должен был явиться такой великий гений, как Рихард Вагнер. Возрождение старого культа Диониса стало живым требованием просвещения, и классический ренессанс, с его трагическими безднами и символическим служением богу Аполлону, сделался великою задачею настоящей умственной эпохи. «Да, мои друзья, – восклицает Ницше. – Верьте вместе со мною в жизнь Диониса, верьте в возможность трагического возрождения. Время Сократа прошло безвозвратно. Имейте только смелость быть трагическими людьми – и вы будете спасены. Сопровождайте торжественное шествие Диониса из Индии в Грецию. Оденьте ваши доспехи, необходимые для жестокой битвы, но верьте чудесам вашего бога». Новая философия с точностью объяснила трагический закон всякого личного существования. После многих веков извращенного и ограниченного просвещения, Дионис опять овладел сознанием людей, идущих к правде. Но с возрождением старого трагического культа должна возникнуть с большим блеском поэзия Аполлона. Когда обнажается бездна жизни, когда человек становится лицом к лицу с трагическою тайною мира, когда он до глубины прозревает ограниченную природу всякого личного существования, именно тогда в нем просыпается всесильная потребность красоты, – безмерной, как безмерно его отчаяние. Искусство спасает жизнь, набрасывая блистательный солнечный покров на темную бездну. Чем глубже страдания, чем сильнее в человеке вопли Диониса, тем светлее должна быть его поэзия, тем она должна быть могучее. Кто служит Дионису, тому помогает бог Аполлон. По изобилию красоты в произведениях греческого искусства мы можем безошибочно судить о безмерности эллинского страдания. Мы должны сказать себе: как велик был в греческой жизни бог Дионис, если потребовалась такая красота для примирения человека с самим собою. Обозревая новейшую эпоху, с ее психологическими страданиями и вечным Духовным разладом, мы не должны сомневаться в том, что время поэтического расцвета недалеко. С неслыханною силою человек постигает теперь трагический смысл всякой жизни – это значит, что царство Аполлона близко. Аполлон идет уже.
Этими светлыми надеждами заканчивается рассуждение о греческой трагедии. С большою силою Ницше указал на значение музыкального искусства, на неизбежную связь между идеализмом и творчеством, хотя в этой области, как мы увидим несколько ниже, мысль его не отличается особенною новизною. Задача книги определилась с полною ясностью. Возрождение Диониса в старо-классическом смысле слова кажется Ницше единственною целью просвещения и культуры. Надо возвратиться к Дионису, потому что пути спасения и избавления от личного начала указаны раз навсегда греческим искусством. Под пером проповедника классического ренессанса во что бы то ни стало не только Шопенгауэр, но даже Кант превратились в теоретиков языческого возрождения. Вот ошибка Ницше, которая должна быть понята как можно отчетливее. Защищая трагическое мировоззрение, Ницше выступает глашатаем правды мировой и вечной. Не подлежит сомнению, что факты жизни трагичны по своей природе, по своему содержанию, по внутреннему составу, представляющему дисгармоническое соединение противоположных сил. С падением поверхностного оптимизма старых и новых эпох не могла не обнаружиться та мировая правда, от которой некуда бежать. Будучи невольным носителем двух стихий, человек в себе самом открыл трагическую бездну, от которой некуда бежать. Дух его объемлет вечный ужас бессильных и, может быть, бесплодных страданий, от которых некуда бежать. В трагическом экстазе он весь ушел бы в служение неведомому Богу, но на жизненном пути постоянно вырастают неожиданные препятствия, осложненные сознанием собственной внутренней ограниченности, от которой решительно некуда бежать. Трагедия в самом принципе человеческого существования – в индивидуальности. Это истина наглядная и понятная для всех. Но вот вопрос: как, при трагическом миросозерцании, разрешается задача человеческой жизни, какие лежат пред человеком пути, если он проникся этим метафизическом взглядом на себя и на других? Мы видели, какая мысль увлекает Ницше. Проповедуя трагическое понимание жизни, он указывает при этом на классические орудия избавления и спасения. В учении об антихристе, он, забыв о Дионисе, требует от людей того веселья, которое, по его же собственным словам, раздражало и огорчало первых христиан. Исследуя вопрос о происхождении греческой трагедии, он тоже требует ренессанса, но именно староклассического, при котором служение Аполлону имеет символический характер, совершается во имя Диониса. Мистическое начало, которое казалось ему убийственною силою для всякой культуры на последних ступенях его блестящей литературной деятельности, здесь, в учении о верховенстве Диониса, получает характер высшего, направляющего принципа. Но при верности философского настроения, которое дало огромную силу критическим суждениям Ницше о греческом искусстве, нельзя не видеть глубоких внутренних пробелов в его анализе, в стремлении сочетать в одном миросозерцании два коренным образом различных между собою начала: Диониса и философского идеализма новейшей умственной эпохи. Учение о Дионисе в своем последовательном развитии не могло не выродиться в крайний демонизм «Антихриста». Постоянно упуская из виду, что наше индивидуальное существование вращается неизбежным образом в мире иллюзий, что метафизическая правда скрыта под внешним жизненным покровом, Ницше делает в своих рассуждениях логическую ошибку, роковую для всей его системы. Из религиозной она мало-помалу становится грубым натуралистическим учением, лишенным глубины. Мысль о Дионисе сообщила неверное направление его уму – яркому, но не глубокому, вдохновенному, но лишенному трезвой остроты, исступленно проповедническому, но не благородно созерцательному. Дав красноречивое объяснение греческого искусства, он при этом не заметил, что трагическое миросозерцание нового времени, открытого, по его же словам, Кантом и Шопенгауэром, стало еще более беспросветным, что классический ужас, с его жестокими жертвоприношениями и вакхическим экстазом, уступил место ужасу почти беспредельному. Некогда могло казаться, что, нарушая законные черты, человек приближается к Богу, что дорога к свободе лежит на поверхности жизни, идет через земные явления, но именно после Канта и Шопенгауэра не должно было остаться никакого сомнения, что соединение с Богом возможно только посредством внутреннего идеального созерцания, мирно отрешенного от всяких ограничений. Есть только один способ победить индивидуальность, и этот способ – созерцательный экстаз, тихий, спокойный, благородный. На каком бы поприще ни трудился человек, пред ним лежит одна открытая дорога к Богу – идеальная дорога созерцательного подвига. В науке человек соединяется с мировою тайною, если он под внешним покровом явлений умеет прозревать великую метафизическую правду. В области житейских предприятий, политического или гражданского характера, человек побеждает свою индивидуальность, если он созерцает божество, не разрушая при этом никаких вещественных символов. Благородно, без малейшего преступления, не возмущая ни своих, ни чужих инстинктов справедливости, он торжествует над собственною ограниченностью. Не вынимая насильственно из мира ни единой формы, не нарушая эстетической игры явлений, он вступает в безболезненный союз с тем, что выше всякой формы. Мыслью светлою и трезвою он постигает святость красоты, облекающей трагическую бездну. На пути религиозного подвижничества человек постоянно выходит из тесного круга мелкого себялюбия, смиряясь только пред идеальным началом жизни. Не преломляя надломленной трости, он все пересоздает таинственною любовью, потому что религиозное чувство сильнее всякой силы, могущественнее всякой власти. Вот единственный путь избавления от индивидуальности. Не вакхический экстаз, который ставит человека в самую пучину явлений, а только экстаз созерцательный мирно выводит людей светлым путем красоты из миража к свободе. Служа Дионису, человек постоянно приходит в уродливое, а не логическое противоречие с богом Аполлоном, потому что только бескорыстное, самоотверженное служение бесформенной мировой правде, не разрывая с миром явлений, не совершая никаких насилий, спасает человеческую душу от всякого жизненного праха, от всякой мишуры – мелкой, пышной и блистательной.
Вакхическое, оргийное начало, культ Диониса медленно, но неизбежно приходил к упадку, постигался все с большею глубиною – по мере того, как развивалась мысль человека. В этом прогрессивном движении Сократ, на которого обрушивается Ницше, занимает очень видное место. Своею диалектикою, проникнутою нежною добротою к миру, он бессознательно для самого себя подготовлял почву для будущих революционных переворотов не только в области житейской морали, но и в чистой области красоты. Еще предаваясь оргийному веселью на великолепных пирах с обильными возлияниями старым богам, он уже духом предчувствовал новые, неизведанные наслаждения, соединенные с новыми идеями и понятиями. Иногда он застывал в глубоком молчании, посреди красноречия, которое лилось кругом шумными потоками. Этот человек, с резкими чертами вакхического энтузиазма на лице, неподвижно, не произнося ни единого слова, целыми часами, бывало, стоял на Афинской площади, ничего не видя и не слыша, никому не давая ответа на предложенные вопросы. Перед Сократом не только преклонялись, но его любили нежною любовью, любили с восхищением, как любят красоту. Среди бурного веселья, которое овладевало афинскою молодежью, он один казался пришельцем из нового мира, с душою, открытою не только для вакхического экстаза, с умом, который таил в себе еще непонятный, но высокий суд над безумными оргиями. Молчание Сократа говорило сердцу чутких афинян сильнее всякой блестящей риторики. Обучая добродетели, он вносил в свои рассуждения не тот узкий дух, о котором опрометчиво говорит Ницше, а ту особенную красоту утонченного благородства и божественного милосердия, которая перед суровым лицом Диониса должна была казаться пустою фантазией сентиментального человека. От его диалектики ломались старые устои трагического миросозерцания, но не подлежит никакому сомнению, что ею медленно, но верно созидался новый мир трагических понятий, благородный, нежный, легкий, как красота. Он был великим преступником в глазах не только невежественной черни, но и самых просвещенных афинян, потому что его диалектика вносила раскол в самый центр народной жизни, потрясая служение старым богам. Защищая доброе начало, он явился реформатором не в практической только области, что имело бы второстепенное значение, но и в свободной области искусства, в области народных верований и предчувствий, в таинственной сфере человеческих отношений с богом. А за Сократом расцвела философия Платона, которая, опять-таки, подрывала вакхические устои жизни во имя идей нежных и возвышенных, как душа Сократа. Старые классические твердыни разрушались сами собою, уступая место новым силам истории. Одерживая постоянные победы, идеализм просачивался в жизнь, видоизменяя в ней не только внешние формы, но и самое представление человека о том, что хорошо и что дурно, что красиво и что безобразно, до бесконечности раздвигая его созерцательный горизонт и облагораживая его трагическое самочувствие. На новых основах идеализма расцветала иная красота с иными перспективами во всех направлениях. Выступая упорным защитником классического ренессанса, Ницше борется за дело, навсегда проигранное, потому что даже в самые лучшие эпохи эллинского расцвета идеализм не достигал тех вершин, которые уже виднелись таким людям, как Сократ, и которые вырисовываются в тревожной атмосфере современных умственных брожений с особенною ясностью, взывая к новым созерцательным подвигам. Мы видели, до каких печальных банальностей Ницше договорился в небольшом трактате об «Антихристе», где героем Возрождения выступил даже такой жалкий в своем уродстве человек, как Цезарь Борджиа. Вся политическая карьера этого авантюриста была не больше, как огромною пошлостью самого дурного тона. А между тем, Ницше готов преклонить колени и перед ним. Мало проникая в события многознаменательной эпохи итальянского возрождения, он не видит, что попытка вернуться к старому богу Дионису не имела серьезного успеха в народе, пережившем, как бы то ни было, христианскую катастрофу. При новом идеалистическом кругозоре, которого нельзя было заслонить никакими искусственными средствами, оргийное исступление, лишенное искренности, не могло стать историческим событием высшего порядка. Вакханалии Александра VI возбуждали повсюду не трагический ужас, в котором есть нечто священное, а грубый ужас непреодолимого отвращения. Когда Цезарь Борджиа развратно надругался в Чезене над Катериной Сфорца, принудив ее угождать своим чувственным прихотям, после мучительной осады Форли, близкие и отдаленные люди, которые еще чтили в нем внешнюю силу, горели от стыда. Во всей истории XVI века нельзя найти ни единого преступления, совершенного в бессознательном экстазе. Мелкая политическая вражда между отдельными частями государства, с чисто рассудочным искательством успеха и власти, кровопролитные оргии не во имя Диониса, а во имя личных честолюбий, низкое предательство, с убийствами из-за угла, с наемным и пьяным солдатством, – такая эпоха не может быть названа эпохою староклассического ренессанса. Новые понятия, хотя и не получившие еще твердого признания, уже овладевали народными массами, возбуждая презрительную ненависть к лицемерным служителям Диониса. Посреди дикого опьянения инстинктами преступности и политических вакханалий слышались вопли идеального возмущения и протеста. Только искусство (о нем Ницше не говорит ни слова), которое далеко опередило культуру страны, спасало ее от полного падения, созидая новые формы красоты. Нарушая внутренние законы справедливости, люди XVI века разучались понимать и чтить святость мира в его явлениях. Но посреди культурного опустошения, гений художественного и умственного творчества искал и находил высокие задачи, совершал таинственное чудо настоящего поэтического ренессанса. Рафаэль и Микеланджело явились действительными реформаторами итальянского духа. Слава Леонардо да Винчи распространяла свет художественного искупления над целой Италией, даже в те печальные месяцы его скитальчества, когда он в качестве военного инженера объезжал и осматривал места, только что разоренные пьяными солдатами Цезаря Борджиа. Настоящие великие люди не разрушают, а побеждают мир – вот почему благородство неразлучно с красотою. Явления остаются на своих местах, но творческий гений переделывает их, – неслышно, незаметно приобщая к божеству. В благородном соприкосновении с мировою тайною гений ни на минуту не теряет своей глубокой безмятежности, своей играющей легкости. Полубогом он ходит среди людей, с душою, открытою для самых мрачных настроений, но с сердцем, исполненным мистической нежности. Таким человеком является Моцарт в бессмертной поэме одного из величайших мировых талантов, Пушкина. Моцарт ничего не разрушает, хотя из-под его пальцев вылетают звуки, наполняющие мир неведомыми очарованиями. Как некий херувим, он принес на землю чудесные райские песни, в которых мирно расплылись все старые напевы. По сравнению с Сальери, он кажется гулякою и безумцем. С поразительной ясностью постигая природу гениальности, Пушкин немногими словами ставит перед нами простого, живого, никогда ничем не напряженного человека. Он веселится, шутит и хохочет, как дитя. Хмурый вид Сальери беспокоит и пугает его. А между тем, воображение Моцарта постоянно витает над мрачной бездною жизни.
Недели три тому, пришел я поздноДомой. Сказали мне, что заходилЗа мною кто-то. Отчего – не знаю,Всю ночь я думал, кто бы это былИ что ему во мне? На завтра тот жеЗашел и не застал опять меня.На третий день играл я на полуС моим мальчишкой. Кликнули меня.Я вышел. Человек, одетый в черном,Учтиво поклонившись, заказалМне Requiem и скрылся. Сел я тотчасИ стал писать – и с той поры за мноюНе приходил мой черный человек.А я и рад: мне было б жаль расстатьсяС моей работой, хоть совсем готовМой Requiem. Но между тем…Сальери:
Что?Моцарт:
Мне совестно признаться в этом…Сальери:
В чем же?Моцарт:
Мне день и ночь покоя не даетМой черный человек. За мною всюдуКак тень он гонится. Вот и теперьМне кажется, он с нами сам-третейСидит.Но при трагическом возбуждении фантазии, Моцарт не способен ни на что дурное, потому что в его глазах гений и злодейство – две вещи несовместимые, потому что дух его безболезненно вращается в светлом мире форм и явлений.
Нас мало избранных, счастливцев праздных,Пренебрегающих презренной пользой,Единого прекрасного жрецов…Пренебрежение к пользе, к выгоде, ко всему тому, что укрепляет индивидуальную жизнь человека, изгоняя мысль о трагической бездне – этим идеальным подвигом Моцарт делает для себя возможным аристократически-безмятежное благородство созерцательного экстаза.
IV
В учении о Дионисе есть еще одна сторона, на которую следует обратить внимание. Делая искусство выражением двух начал, личного и мирового, Ницше не мог не подойти к вопросу, имеющему первостепенную важность для эстетической критики. Если Аполлон является представителем мира красоты и форм, то Дионис получает в его рассуждениях характер отвлеченного элемента, необходимого для всякого творческого процесса. Как бы ни изменялось самое понятие о Дионисе, неизбежная связь между метафизикою и искусством объяснена и доказана с огромною силою. Искусство служит красоте при помощи Диониса, т. е. при помощи отвлеченных метафизических идей. Сливаясь в одно целое, дух Аполлона и дух Диониса создают явления нового порядка, имеющие символический смысл. Ницше рассуждает об этом предмете только применительно к вопросу о происхождении греческой трагедии, но смысл его анализа гораздо шире и глубже, потому что вопрос о взаимном отношении между жизненным материалом искусства и отвлеченными идеями имеет всемирное значение, как вопрос центральный для каждой данной исторической эпохи и при самых разнообразных литературных веяниях. Ведя борьбу со всяким рассудочным просвещением, Ницше, при его поэтическом чутье, не мог не разобраться в этом вопросе с полною свободою. В самом деле, связь искусства с метафизикою ясна до очевидности. Основанное на простых восприятиях, искусство нуждается в умственном свете, который дается просвещением. Чтобы воспринять явления жизни, надо их увидеть глазами духа. Чем шире понимание обстоятельств, форм и типов личного и общественного существования, чем просторнее горизонт наблюдений и анализа, тем яснее для нас те факты, которые должны подвергнуться переработке в творческом процессе. Самое обширное образование помогает только видеть предметы мира. Мы должны увидеть действительную природу вещей в их многоразличных сплетениях, в их отдаленных и близких воздействиях на человека, побеждая предрассудки собственного мышления, которые мешают трезвости и точности созерцания. Не всякий человек видит то, что есть, потому что между глубоким восприятием и способностью к свободному не банальному мышлению существует отношение полной внутренней солидарности. При узком рассудочном просвещении мы видим явления и предметы в их поверхностных отношениях между собою. От нас ускользает все таинственное. Мы ничего не видим в глубину, потому что только идеи высшего порядка открывают внутренние свойства вещей, приближают нас к загадкам человеческой и мировой жизни. Будучи выражением мистической тайны жизни в отвлеченных понятиях, философия дает тот свет, при котором предметы могут быть изучены в самых разнообразных отношениях и подвергнуты глубокому анализу. Она соединяет конкретный мир призрачных видений и галлюцинаций с тою правдою, которая составляет его живое дыхание, его бессмертный смысл. Вот почему каждый истинный талант, в какой бы области искусства он ни работал, непременно тяготеет к философской мудрости, которая одна дает ему возможность войти в центр природы и живых социальных брожений. Видя предметы хорошо – насквозь, в глубину, зная относительную ценность явлений, внутренне постигая непобедимый закон разрушения и освобождения, художник с дарованием является одновременно и огромною умственною силою, и убежденным носителем возвышенных тайн жизни, открытых в созерцательном экстазе. Ницше много раз на протяжении своего трактата возвращается к этой теме, постоянно развивая ее в одном и том же направлении. Царство Аполлона, пишет он, подчиняется царству Диониса. Это значит, что все индивидуальное подчиняется мировому, что явления жизни находятся в неразрывной связи с метафизическими связями, что каждое случайное событие какого угодно порядка может получить правильное истолкование только при помощи критического анализа на твердых основах философского идеализма. На этот счет Ницше высказывает свои убеждения с литературного ясностью, не требующей никаких дальнейших комментариев с нашей стороны. Но мы должны заметить только следующее. Как бы ни были сильны и метки рассуждения Ницше по вопросу об элементах всякого искусства, они не отличаются особенною новизною в трактате, который появился тогда, когда философия Шопенгауэра уже пользовалась европейской известностью. Никто лучше Шопенгауэра не писал о творческом процессе, никто тоньше, глубже и смелее не выражал своей ненависти ко всякому педантически узкому ограничению художественной деятельности чисто житейскими взглядами и понятиями. С необычайною ясностью определяя задачу философии, он при этом в отдельных мимолетных рассуждениях указывает, какую огромную силу метафизика представляет для художественных целей и восприятий. Ничего не говоря ни об Аполлоне, ни о Дионисе, Шопенгауэр логически ставит те же самые вопросы, что и Ницше в том же сочетании и в том же освещении. Для него, как и для Ницше, искусство является воплощением мировой загадки в образах легких, точных и прозрачных, но подчиненных трагической задаче смерти и освобождения, как бог Аполлон фатально подчиняется богу Дионису.