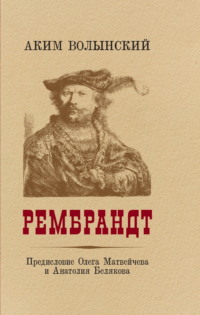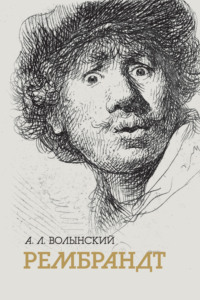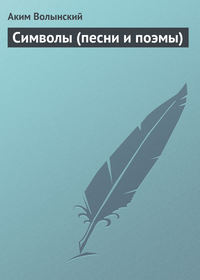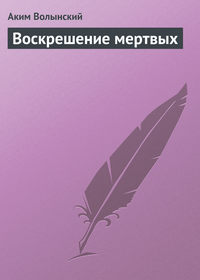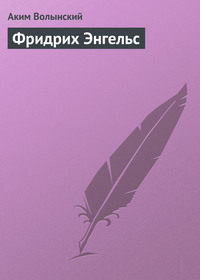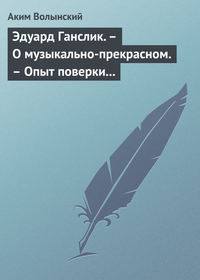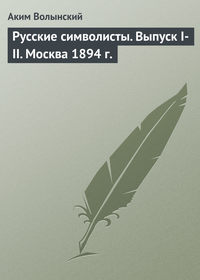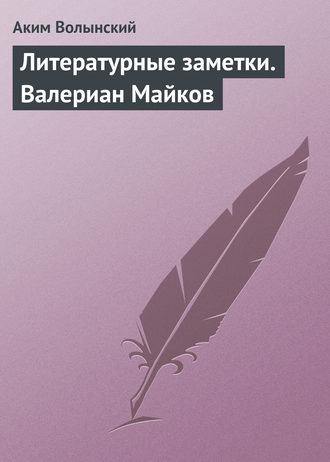 полная версия
полная версияЛитературные заметки. Валериан Майков
Покончив с аналитической стороной социальной философии, Майков посвящает несколько страниц выяснению её синтетической части. До сих пор, говорит он, мы рассматривали общество, как целое, состоящее из частей, теперь-же мы должны посмотреть на него, как на часть высшего целого. В этом пункте философия общества соприкасается с антропологией. Если высшая социальная наука исследует внешние формы человеческой жизни, то отсюда понятно, что её главные принципы должны подчиниться принципам той науки, в которой рассматривается самая сущность предмета, сам человек с его типическими признаками характера и темперамента. Анализ явлений социальной жизни приводит к более обширному взгляду на все общественные вопросы, к теории народности – «не как эгоистического начала, разделяющего нации, но как органического условия их единства». Народность есть одно из проявлений человеческой природы, которое кладет свою печать на все общественные науки – на политическую экономию, право и нравственность. Каждый народ, заявляет Майков, имеет свою науку, свое искусство, свою нравственность, и при разнообразии национальных особенностей, – все виды человеческой деятельности только служат общечеловеческому мировому началу. Проникаясь идеею народности, социальная наука вступает в союз с антропологией, без которой её теоретические и практические выводы не могли-бы иметь плодотворного влияния на действительную жизнь человеческих обществ. «Народность, рассматриваемая в её отношении к интересам человечества, вот основание социального синтеза и антропологическая основа общественного благосостояния». Национальность в народе то-же, что темперамент в отдельном человеке. её настоящая сила – не в формах быта, а в понятиях. Обставьте народ какими угодно условиями жизни, – он не изменит своего характера, своей национальности, потому что, говорит Майков, его типические черты неизгладимо врезаны в его натуру. Не отделяясь от цивилизации других народов, каждый народ своими личными способностями и умственными стремлениями представляет одно из условий органического развития всего человечества. Обращаясь от этих незаконченных и тусклых рассуждений о синтезе социальной науки к характеристике русской народности, Майков в следующих пышных выражениях рисует её главные черты и признаки. Русский ум, говорит он, не удовлетворяется ни чистым умозрением, ни голым опытом. Одно он называет мечтою, другое – механическим трудом. При антипатии ко всяким внешним эффектам, искусственному блеску, оскорбляющему его степенность и строгость, русский человек глубоко сознает внутреннее равенство между анализом и синтезом и потому в области науки может оказаться одним из самых прогрессивных деятелей настоящего времени. К этой характеристике русского ума, которую сам Майков готов назвать панегириком, молодой писатель прибавляет еще одну блистательную черту, «на которую до сих пор не обращено надлежащего внимания». Русский ум, говорит он, «отличается необыкновенною смелостью». То, что в западной Европе развивалось медленно, путем самых трудных исторических превращений, рядом серьезнейших умственных и социальных катастроф, в России с неимоверною быстротой обходило все слои интеллигентного общества. В незаметный миг времени, без волнений, «в лоне мирного сознания» решались у нас вопросы огромной важности. Философия энциклопедистов разлилась по всей России, не встретив никакой серьезной задержки. Смелый тон нашего убеждения, презирающего всякие странные понятия общественной учтивости, резкие, ни перед чем не останавливающиеся приговоры, с явным оттенком критической беспощадности – при таких качествах нельзя бояться подпасть под владычество каких-либо авторитетов. Итак, заключает Майков, гармония аналитического воззрения с синтетическим, строгая простота выражения и энергическая смелость – таковы отличительные достоинства русского ума[4].
Вот в самых главных чертах вся философия первой большой статьи Майкова, обратившей на себя внимание в интеллигентных кружках того времени. Отсутствие в русском обществе каких-нибудь серьезных умственных преданий, непривычка рассуждать на трудные философские темы, внешние признаки прогрессивности в самой постановке новой научной задачи, некоторая, хотя и очень ординарная увлекательность в изложении – все это бросилось в глаза и показалось чем-то многознаменательным, имеющим широкую будущность. В статьях Белинского философские мысли, выраженные с большою страстью, производили всегда впечатление поэтических излияний. Овладевая чувством, они оставляли часто без удовлетворения живую потребность в простой, ясной, холодной логике, опирающейся на несокрушимые доводы науки. Безмятежная, слегка докторальная, хотя и многословная манера Майкова, при его постоянных ссылках на новейшие европейские имена и выдающиеся сочинения по разным политическим и социальным вопросам, не могли не возбудить в обществе и в литературе некоторых надежд. Среди деятелей молодой журналистики не было ни одного человека, который был способен подвергнуть строгой критике его общие философские положения. В каких изданиях сороковых годов можно было найти серьезные рассуждения о разных научных методах, о целях и приемах общественных наук, рассматриваемых с точки зрения одной высшей социальной идеи? Вопрос о национальности, служивший предметом горячих препирательств между Белинским и деятелями «Москвитянина», ни кем в то время не был поставлен на почву социологии. Майков своим трактатом сразу внес в журнальную литературу дух научно-философского исследования, который должен был расшевелить умы в совершенно новом, неожиданном для той эпохи направлении. При свежих перспективах старые интересы, разделявшие главных деятелей литературы на противоположные лагери, выступали, наконец, в солидных, импозантных формах, допускающих чисто логическое обсуждение с разных объективных и доступных точек зрения. Майков придал национальному вопросу, на первых порах своей литературной деятельности, характер научной теоремы, необходимой для завершения, для полного округления социальной философии. Вот несомненная заслуга этого рано умершего писателя, не обладавшего крупным литературным талантом, по своему сухому, рассудочному темпераменту мало подходившего для роли эстетического критика, но по всему своему умственному складу несомненно призванного для университетской кафедры. Это педантическое разграничение между отдельными науками одной и той-же категории, с полным изгнанием из них жгучего, идейно-протестантского элемента, эти уверенные рассуждения о праве с узко-формальной, государственной точки зрения, это схоластическое понимание самой задачи социологии, представленной в виде какой-то высшей контрольной палаты по вопросам трех различных порядков – все это, вместе взятое, дает характерную физиономию молодого двигателя образования в узкой рамке патриотической педагогики и казенных предначертаний. При всей симпатии к новым обобщениям, Майков не поднимался над уровнем обычной посредственной учености, которая не могла оставить глубокого следа в развитии общества. Его идеи, изложенные в его первых статьях, возбудив внимание в небольшом кругу журнальных деятелей, очень скоро совершенно затерялись и даже, в измененном виде, не пустили никаких корней в публицистической и философской литературе России. При внешних признаках новаторства, в работах Майкова не было большего внутреннего содержания и той острой научной критики, которая от общих положений быстро обращается к частным фактам, чтобы на них, с художественной рельефностью, осветить и оправдать известную теорию, известную систему понятий. Мысли его, при схематической стройности, не сплочены внутренней психологической силой, страстно прочувствованным убеждением, которое во всех формах личной и общественной жизни ищет отражения неизменных начал мирового процесса, тех общечеловеческих течений, которые проходят через души цельных и ярких людей, независимо от степени их образования и литературного таланта.
Мы уже видели, с какими педантическими ограничениями Майков рассмотрел и очертил аналитическую работу социальной философии. Отдельные её части оказались совершенно формальными, бледными науками с случайным направлением понятий, определяемым внешними историческими силами. Сама социальная философия получила, в его изложении, характер внешнего надзора за деятельностью этих наук в узко отмежеванных границах. Но на этом не остановилась ограничительная тенденция Майкова в важной области научного разбора общественных явлений. В учении о социальном синтезе, искусственно сведенном к идее народности, вся его философия становится источником мертвящих принципов, оплотом рутинных взглядов и оправданием грубых шовинистических инстинктов и алокультурных народов. Наука, которая, по природе своей, должна вырабатывать только идеи высшего мирового порядка, суженная поверхностным анализом в самом центре философского исследования, в заключительных соображениях сведена к фабрикации каких-то рецептов местного благоустройства, составляющего самостоятельную часть общечеловеческого благоустройства. Политическая экономия должна иметь строго-национальный характер. Понятия о праве и справедливости видоизменяются для каждого отдельного народа. Даже нравственные идеалы, которые, несомненно, должны были-бы представлять незыблемый устой среди меняющихся веяний истории, подчинены национальным и расовым особенностям. В умственном развитии человечества не оказывается ничего объединяющего, мирового, стоящего выше случайных народных стремлений и направляющего культуру к вечным идеальным целям. Приписав ошибочное значение национальной идее, Майков не разгадал и не открыл её истинной природы. Не давая материала для заключительных обобщений социальной науки, которые соединяют ее с общими, основными философскими понятиями, идея народности представляет громадный интерес в другом, психологическом отношении, на который Майков не обратил никакого внимания. Сказав однажды, что народность заключается в духе, а не в формах быта, он при этом не дал понять, что под духом здесь следует разуметь исключительно народный темперамент, сферу чувств, оригинальных настроений, оттеняющих общечеловеческие стремления и идеи в данной умственной и социальной среде. Национальность – не в различии понятий, не в разнообразии нравственных и философских взглядов, исходящих из общечеловеческих духовных источников, а только в характере, в темпе внутренних волнений и ощущений, сопровождающих каждое духовное восприятие, каждый порыв ума к универсальной истине. При единстве общечеловеческих идей справедливости и свободы, при коренном сходстве в идеалах красоты и совершенства, разные народы постоянно вносят индивидуальный колорит в свою историческую работу, в произведения своих лучших и характернейших художественных талантов. Общие мировые идеи, стесненные определенными бытовыми условиями, границами тех или других расовых и психических индивидуальностей, выступают, в переработке отдельных народов, односторонними типическими явлениями единого духовного порядка. Вот в каком смысле уместно говорить об идее народности: она имеет значение для чисто психологического понимания душевной жизни масс, как идея индивидуальности, она может пролить некоторый свет при изучении истории отдельных обществ, создаваемой борьбою инстинктов, чувств и страстей, она дает возможность проникнуть в капризные, подвижные формы творчества, отвечающие интимным особенностям отдельных темпераментов. Давая ключ к объяснению того, что создается непосредственными чувствами и симпатиями, она не может быть руководящим принципом при оценке явлений, имеющих умственное, теоретическое значение. Только в жизненном и художественном воплощении общечеловеческих идей естественно проявляется индивидуальное разнообразие, ибо каждое выражение бесплотной по природе мысли неизбежно принимает рельефность и яркость оригинального колорита вместе с ограниченностью и условностью всякой чувственной формы. Но по скольку национальная печать отмечает теоретические идеи известного порядка, по стольку она извращает значение этих идей, потому что в области духа, в области отвлеченной мысли не должно быть и не может быть двух истин по отношению к одному и тому-же предмету.
Дли полноты характеристики Майкова в этом моменте его литературной деятельности отметим несколькими критическими замечаниями то, что им сказано о свойствах русского ума. С чувством особого патриотического удовлетворения Майков, как мы видели, усматривает в русском народе гармоническое сочетание аналитических и синтетических «воззрений». При ненависти к ничтожному остроумию и блистательной фразеологии, русский человек счастливо соединил в себе умение разлагать каждое явление на части и затем вновь соединять эти части по строго-логическому, трезвому методу. Такова наивная, не глубокая, хотя пылкая характеристика, вышедшая из под пера молодого фактического редактора «Финского Вестника». Изгоняя из своих рассуждений строго научное представление о вне-опытных, мистических элементах духовной жизни и сведя всю деятельность человеческого ума к какому-то внешнему процессу, Майков не мог заглянуть в глубь индивидуальности русского народа. Если принять характеристику Майкова, то пришлось-бы допустить, что в России находятся на одинаковой высоте и то, что производится аналитическою работою человека, и то, что создается его синтетическими силами. Можно подумать, что русское художественное творчество и русская культура стоят на одинаковом уровне развития. Политическая история русского общества и русская политическая наука, если верить Майкову, если держаться его поверхностно-оптимистического взгляда, должны представлять целый ряд триумфов, свидетельствующих о несокрушимом житейском и теоретическом анализе русского ума. Искусство, для которого прежде всего требуется своеобразное восприятие действительности в непосредственном идеальном свете сознания, искусство, которое начинается синтезом, продолжается синтезом и никогда не переходит в рассудочный последовательный анализ, искусство, запечатленное, в своих красках и формах, оригинальностью характера и темперамента – вот в чем обнаружилась истинная духовная сила русского общества. При бедной культуре, двигающейся робкими и неверными путями, при крайней ограниченности политической мысли, при убожестве и грубости публицистических орудий, при общей банальности и мелкости научно-философских приемов и стремлений, одно только русское поэтическое творчество представляет законченное самобытное явление, имеющее общечеловеческое, мировое значение. Анализ не показал себя до сих пор в России сколько-нибудь заметной, развитой способностью. В области гуманитарных знаний, ведущих общество по пути нравственного и умственного прогресса, мы не имеем еще до настоящей минуты ни одного особенно крупного факта, который мог-бы выдержать сравнение с однородными проявлениями могущественного анализа европейской мысли. Русская социальная наука влачится в прахе, цепляясь за самые поверхностные течения в культурной жизни других народов, раболепствуя перед собственными ничтожными кумирами, постоянно приснащаясь к случайным публицистическим интересам. Русская философская мысль до сих пор еще находится под запретом у коноводов журнальной печати, испуганно содрогаясь от крикливых, нагло-невежественных обвинений в склонности к метафорическим бредням. Где-же можно открыть, хотя-бы теперь, через полвека после громкого заявления Майкова, какие-нибудь яркие следы настоящего научного анализа, плодотворной умственной работы, соединяющей в себе обе стороны человеческого мышления, захватывающей в одном цельном построении результаты синтеза и анализа? Где доказательства того, что русская натура обладает такими разносторонними духовными способностями, такой «энергичной смелостью» при органической симпатии к строгой правде, если даже в практической сфере все её прогрессивные стремления сводятся к каким-то жалким, быстро проходящим, «благим порывам»?..
Теперь мы исчерпали все, что относится к социальной философии в рассуждениях Майкова. Анализ, синтез, вопрос о национальности в его теоретической постановке и частный вопрос о характерных свойствах русской народности – эти различные темы и составляют главное содержание обширной статьи Майкова «Общественные науки в России». С этими мыслями, без посредствующего эстетического звена, было бы невозможно прямо обратиться к предмету настоящей литературной критики, и вот мы находим в отрывках Майкова, не напечатанных в свое время, но обнародованных, как мы уже сказали, в полном собрании его работ, несколько мыслей, получивших дальнейшее развитие в его следующих статьях. Майков, на двух страницах, делает первый набросок своей эстетической теории. Он старается отметить главный типический признак искусства вне определении «школьной эстетики». Изящно все то, говорит он, что только производит какое-нибудь впечатление на человеческое чувство. «Изящное произведение тем и отличается от других произведений свободной деятельности духа, что действует на чувство, и что без того оно не было бы изящным». Наука обращается к уму и никто не может требовать, чтобы она управляла волею и «раздражала чувство». Истины, добытые путем научного исследования, не действуя «на чувствительную сторону человеческой души», не производят никакого влияния и на нравственность. Аполлон Бельведерский ничего собою не доказывает, ни к чему не подвигает, но «смотря на этот антик, вы трепещете от восторга, видя перед собой осуществление душевной и телесной красоты». Он до основания поражает нашу чувствительность. В опровержение этого взгляда на искусство часто приводят, замечает Майков, примеры таких произведений, которые в одно время удовлетворяют и требованиям ума, и требованиям изящного. Утверждают, что писатель может и доказывать и пленять художественностью формы. Но такое представление Майков считает совершенно ложным: «поэзия, говорит он, доказательств не терпит, ибо доказательство необходимо приводит к чистой мысли, разоблаченной от жизненных форм»…[5] Вот вкратце эстетические взгляды, выраженные Майковым в статье его «Общественные науки в России», взгляды, представляющие, несмотря на отсутствие пространных доказательств, некоторый литературный интерес.
Не углубляясь пока в критику этой эстетической теории, укажем её главные общие недостатки. Во-первых, определение изящного, сделанное Майковым, не заключает в себе типических признаков художественного произведения и в то же время не выделяет его из необъятной сферы явлений, так или иначе действующих на наше чувство. Нельзя считать изящным все то, что производит на нас какое-нибудь впечатление. Наши впечатления разнообразны, как мир. Наши чувства приходят в движение по самым различным мотивам, потому что нет такого явления, которое, вступая в нашу душу с большей или меньшей силой, не вызвало бы волнения в области наших ощущений. Волнение эстетическое имеет свою собственную окраску, тенденцию, и задача эстетики заключается именно в том, чтобы точно определить его природу. Но от такой научной постановки вопроса Майков, по крайней мере в данном рассуждении, стоял очень далеко. Во-вторых, нельзя не признать крайне односторонним понятие об изящном, как о чем-то радикально отличном от истинного. Майков не уразумел, что изящное есть только правильное воплощение истинного. Вынимая из художественного произведения разумный элемент, который не может не действовать на сознание, двигать его в ту или другую сторону, возбуждать в нем, вместе с кипением чувств, диалектическую работу и борьбу различных идей и понятий, Майков опять обнаруживает непонимание синтетического характера художественного процесса. Бессознательно развертываясь в произведениях искусства, выступая в полном слиянии с определенною внешнею формою, идеи составляют душу всякого художественного творения и, по самой своей природе, могут быть постигнуты только сознанием. Именно в этом и заключается отличительный характер эстетических чувств, их идейным происхождением и объясняется их возвышенность и утонченность, находящаяся в прямом отношении к степени умственной и нравственной культурности человека. Не терпя никаких рассудочных доказательств, искусство полно жгучей диалектики, овладевающей умом с властною, ничем непобедимою силою.
Мы оставим без внимания две совершенно незначительных заметки Майкова о кн. Одоевском и Тургеневе в библиографическом отделе «Финского Вестника» и перейдем к новому и последнему периоду его литературной деятельности – в «Отечественных Записках».
III
За год до отъезда в Зальцбрунн, Белинский разорвал с «Отечественными Записками» и собирал труды друзей своих для обширного альманаха «Левиафан». Тургенев, рассказывает Анненков, был из первых, обещавших Белинскому свою лепту, а между тем, но лукавству, составляющему обычное явление в литературных кружках, он вовсе не искал и не хотел конечной гибели «Отечественных Записок»[6]. Сочувствуя, как начинающему писателю, В. Майкову, Тургенев свел его с Краевским, который и поручил ему главные части критического отдела своего журнала. Эстетика Майкова, замечает Анненков, построенная на этнографических данных, могла дать окраску этому либеральному изданию, и пятнадцать месяцев усердного участия Майкова в «Отечественных Записках», с апреля 1846 г. по июль 1847 г., до некоторой степени поддерживало их старую репутацию, не смотря на переход Белинского в «Современник». Майков возбудил своими статьями, которые именно теперь приобрели более или менее яркий колорит, довольно оживленные прения в журнальных кругах, вновь и с особенною силою поставил и разрешил старый вопрос о народности, подробно и ясно изложил эстетическое учение, отличающееся коренным образом от теоретических воззрений Белинского в этом последнем периоде его литературной деятельности. Публика, знакомая со статьею Майкова в «Финском Вестнике», знала его общие социальные идеи, но вовсе не могла подозревать в нем какие-нибудь определенные критические стремления в области эстетических вопросов. За исключением двух – трех фраз, в которых говорится, что никакая «новая мысль не может быть выражена эстетически», что поэзия не терпит доказательств и что задача истинного художника заключается в том, чтобы глубоко прочувствовать общую идею века и творчески воплотить ее «в животрепещущий образ», за исключением этих и некоторых других попутных, случайных замечаний, в первых работах Майкова нельзя найти ничего определенного, ясного, твердого на тему об искусстве. В «Отечественных Записках» литературная деятельность Майкова, за выбытием из состава редакции Белинского, должна была развернуться шире – именно в сфере эстетических вопросов. Приходилось постоянно отвлекаться от предметов юридических и экономических, всего более отвечавших его внутренним склонностям, чтобы давать своевременные отчеты о явлениях чисто литературных, о художественных произведениях, сколько-нибудь выделяющихся по таланту и значительности идейного содержания. Около таких произведений и явлений яркое дарование Белинского достигло вершины своего развития, и писатель, который решился занять его место на страницах одного из самых видных органов того времени, должен был явиться перед публикой с определенными эстетическими убеждениями и художественными симпатиями. Надо было обнаружить известную систему понятий и тонкий вкус, действующий не безотчетно, не по капризу авторских пристрастий, а по определенному критическому принципу, доступному для спора и возражений с каких-нибудь других точек зрения. Майков, по-видимому, хорошо понимал ответственность своего положения в качестве первого критика журнала. С первых же шагов он старается, по разным важным и неважным поводам, занять известную позицию по отношению к задачам искусства, разбирая современные произведения художественного и поэтического творчества, давая мимолетные характеристики выходящим книгам. Он пишет о Жадовской, высмеивает стихотворные упражнения В. Аскоченского, набрасывает несколько неуверенную, хотя в общем сочувственную рецензию на сборник А. Плещеева и довольно часто распространяется об исторических судьбах русской литературы, о Пушкине, Лермонтове. Он проводит параллель между Гоголем и Достоевским, адресует несколько похвальных замечаний Герцену, выражает скорбь, с оттенком возмущения и протеста, о том что бездарные вирши, порождения самолюбивой затейливости, часто вытесняют такие истинно талантливые поэтические произведения, как стихотворения Тютчева. Рядом с краткими оценками отдельных эстетических явлений, мы постоянно встречаемся в статьях Майкова этого периода с пространными рассуждениями теоретического характера. Не умея сгущать выражения своих мыслей и постоянно прибегая к разным малозначащим историческим иллюстрациям, Майков теперь окончательно развивается перед читателем определенное учение об искусстве и творчестве, стоящее по-видимому в принципиальном противоречии с утилитарными взглядами Белинского – почти накануне его смерти. Он не только не изменяет своим научным симпатиям, как они определились в рассмотренных статьях «Карманного Словаря» и «Финского Вестника», но еще с большею уверенностью провозглашает великое значение аналитического метода, как он его понял. Он нашел приложение своим понятиям, воспитанным в школе формальных юридических определений, и отныне его журнальная деятельность направляется к двум, не совсем однородным целям. Продолжая начатые работы, он завершает свою эстетическую теорию и окончательно перестраивает прежнюю теорию народности, подробно разобранную нами выше.