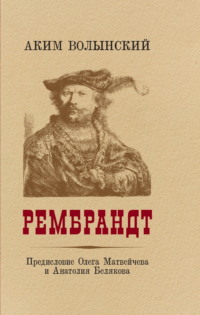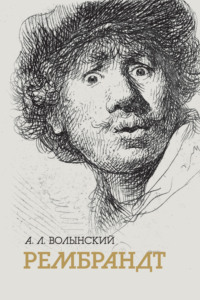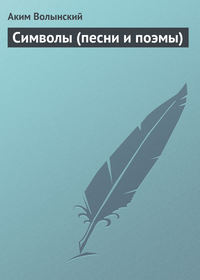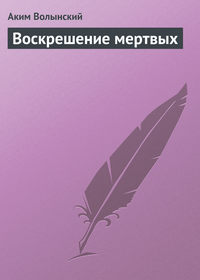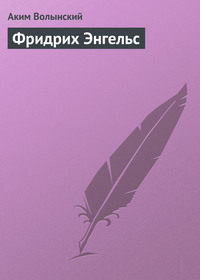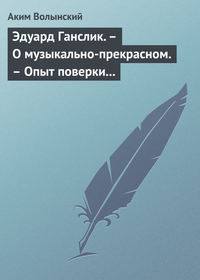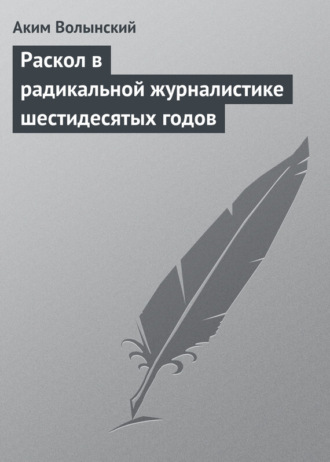 полная версия
полная версияРаскол в радикальной журналистике шестидесятых годов
Эти две статьи «Русского Слова» глубоко уязвили Щедрина, и он рванулся на своих противников – по выражению «Отечественных Записок», с тележной оглоблей в руках. Все самые грубые и неприличные ругательства, не имеющие сами по себе никакого смысла, были пущены в ход. Желая поддержать авторитетный тон «Современника», он высокомерно третирует злобствующих «мальчиков», этих «новых Колумбов, искусно отыскивающих принципы в мире яичницы и ерунды». Потеряв душевное равновесие, Щедрин разливает целые потоки хулы и сквернословия, называя современное молодое поколение «ядовитой слизью, которая незаметно заползает всюду и разъедает все, к чему бы ни прикоснулась». Мальчики, говорит он, кишмя кишат в этом мире и ловко подставляют ногу всему, что не смотрит на жизнь, как на милую безделицу. Они идут по дороге жизни, подплясывая, продолжает он, сваливая грех с больной головы на здоровую, они высовывают толпе язык и в то же время ловко выкрадывают друг у друга лакомые куски. «Это целая каста, в которой трепещет и бьется один принцип – неименье никаких принципов». Приходя мало помалу все в большее бешенство, он разражается между прочим следующими постыдными фразами: «Не поленитесь наблюсти когда-нибудь, говорит он, за улыбками мальчика, за его пожатием руки, всмотритесь в разнообразные оттенки тех и других, и вы без труда догадаетесь, что это за канальский зародыш. В этих улыбках откроется для вас весь внутренний мир этой, если можно так выразиться, заживо разлагающейся душонки, со всем её тайным высокомерием»… Обращаясь к новым, оскорбившим его деятелям печати.
Щедрин называет их вислоухими и юродствующими, которые «с ухорскою развязностью» прикомандировывают себя к прогрессивному делу. Эти люди, пишет он, считают себя какими-то сугубыми представителями молодого поколения, забывая, что дрянь есть явление, общее всем векам и странам. Эти люди серьезно готовы признать «болтуна Базарова» за тип современного прогрессиста. Переходя к самым статьям Зайцева и Писарева, пишущих в «невинном, но разухабистом органе невинной нигилистской ерунды», Щедрин рассказывает своим читателям, какую бурю поднял его прошедший фельетон в мире «вислоухих, юродствующих, лилипутов» – его безобидный фельетон, имевший целью сказать правдивое слово о молодом поколении, «захламощенном различными услужливыми ревнителями». Но он никогда не самообольщался на счет вислоухих. Он всегда был того мнения, что они одним своим участием делают неузнаваемым всякое дело, к которому прикоснутся, «подобно тому, как мухи летом в одну минуту засиживают какую угодно вещь, хотя бы самую драгоценную». Надо оградить общество от горлопанов, юродствующих и вислоухих «с их скудным запасом умственных способностей». Вислоухие рисуются демократизмом, но весь их демократизм состоит в том, что «они ходят в поддевке и сморкаются без помощи платка». Они рисуются нигилизмом, но нигилизм свой доказывают только тем, что готовы во всякое время дня выбежать голыми на улицу. Они считают себя социалистами, но «Россия даже не подозревает, существуют ли они, эти нового рода социалисты, взирающие на жизнь, как на увеселительное заведение с пением и плясками!» Они ругают его, Щедрина, за несколько критических замечаний о романе Чернышевского, а между тем всякий разумный человек, читая этот роман, «сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей.» Вислоухие обходят существенное содержание «Что делать» и приударяют на счет подробностей, среди которых их всего более соблазняет «перспектива работать с пением и плясками»… Обрисовав в таких ужасающих, отталкивающих и карикатурных чертах наиболее типичных представителей передовой России того времени, Щедрин приносит покаяние в своих проступках перед представителями отживающей России, которых обличала до сих пор его сатира: «Да, я каюсь пред вами, старые, отживающие век драбанты! Я был близорук, я не предвидел, что сквозь вас прорастут драбанты новые, и гораздо более ехидные, нежели вы. Я верил в какую-то звезду и умилялся, взирая на мальчиков, которые росли не по дням, а по часам. Оказалось, что это даже и не звезда совсем»[35]…
Редакция «Русского Слова» ответила немедленно. В неподписанной заметке под названием «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист Современника», журим резко и беспощадно разоблачает все скверные стороны в полемическом фельетоне Щедрина. Фельетонист «Современника» доказал в самом деле, что его чаша полна, но что в ней заключается не нектар, а какая-то «желтая жидкость». Все сотрудники «Русского Слова» обруганы казарменным стилем, которому мог бы позавидовать любой уличный листок. От всех острот Щедрина «пахнет салом курдюцкого барана». Однако он не дал никакого принципиального ответа на возникшие в печати сомнения по поводу его выходки против нигилистов и Чернышевского. Он ничего толком не объяснил, и в его фельетоне, кроме ругани, ничего найти невозможно. «Нас удивляет, пишет Русское Слово, каким образом редакция журнала, всегда отличавшегося тактом, позволила открыть у себя, вместо легкого литературного отдела, какой-то балаган, наполненный кривляньями и буфонством». К чему этот беспредметный гам и стон на том самом месте, где читатели привыкли встречать настоящую полемику, не руководимую раздражением канцелярского самолюбия? Разве Добролюбов отхватывал трепака, когда вступал в единоборство со своими противниками? Разве Чернышевский клеветал на своих оппонентов, с которыми он расходился во мнениях? «Мы еще раз предупреждаем Современник, пишет Русское Слово, что есть границы унижения, за которыми сочувствие, так дорого купленное прежними его деятелями, уже трудно возвратить». Пусть редакция «Современника» обратит внимание, что в их круге оказалась чужая овца. Щедрин издевается над лучшей частью русского общества, но видано-ли где-нибудь, чтобы журналистика издевалась над теми людьми, с которыми она находится в естественной связи, от которых она должна ожидать своих лучших деятелей?..[36].
Косица и журналист, подписавший Incognito, отметили, каждый в свое время, фальшивый выверт Щедрина в его полемическом объяснении по поводу Чернышевского. Ради здравого понимания дела, ради высших интересов истины, писали «Отечественные Записки», мы обязаны сказать, что увеселительное здание из хрусталя и аллюминия в романе «Что делать» вовсе не произвольная подробность. Объяснение Щедрина, заявлял Косица в «Библиотеке для чтения» 1865 г., есть одна уловка, ибо подробности, которые он осуждает, глубочайшим образом связаны с главною мыслью, с основным духом всего романа… Радикальная репутация Щедрина явно пошатнулась, и «Современник», так долго руководивший общественным мнением России, поколебался в своем положении. Два фельетона талантливого, но опрометчивого сатирика должны были окончательно погубить это издание, изменившее самому себе. В это-то время «Современник», надеясь еще наверстать все потерянное в летучей схватке с «Русским Словом», усиливает свою полемику с Достоевским и, как мы уже знаем, доводит ее до невероятного безобразия, вызвавшего энергичный протест во многих столичных и провинциальных изданиях. Не только литературная, но и нравственная репутация журнала стала шататься в глазах публики. Щедрин и Антонович каждым своим шагом все более и более рвали связь с прежними лучшими деятелями, и новые силы, шедшие на смену Добролюбову и Чернышевскому, не упускали случая, чтобы довести до конца раз начатую борьбу с «Современником». В апреле 1864 года Антонович бросает скрытый намек в статье о Писемском против «критиков-детей», увлекшихся новым романом Тургенева[37]. Он все еще не может понять своей роковой ошибки, поставившей его в ложное, двусмысленное положение по отношению к молодому поколению. Ему все еще кажется, что Базаров есть карикатура на тип этого молодого поколения. Лишенный всякого критического чутья и художественного понимания, он все еще разгуливается насчет Тургенева и Базарова в площадном тоне, без единого признака живого чувства, живой и непосредственной талантливости. «Современник» как-бы не хочет считаться с взглядами Писарева, который сразу, еще в марте 1862 г., метко оценил произведение Тургенева в статье под названием «Базаров». Он пренебрежительно трактует человека с настоящим критическим даром, по темпераменту как-бы призванного заменить Чернышевского в современном прогрессивном движении русского общества. С наивностью самого поверхностного публициста, непривыкшего взвешивать полемические силы своих соперников, он сам лезет на борьбу с тою же тележною оглоблею, которою бился Щедрин, и при том без его стихийного размаха. Но Писарев мог только выроста и показать свое природное дарование в схватке с «Современником». Тип Базарова представлялся ему превосходным художественным воплощением его собственных убеждений, всех симпатий и убеждений молодого поколения, к которому он принадлежал, и выйти на битву за Базарова, именем Базарова, под флагом реалистического радикализма, значило для него сразиться за святыню своих пылких идейных влечений и страстей. Он с чувством полного превосходства приступил к полемике с «Современником» и на противника, прикрывающегося авторитетом изъятых из борьбы деятелей, обратил свой остро-наточенный, удалецки-разбойнический нож. В трех статьях, под интригующим заглавием «Нерешенный вопрос», он изложил, с настоящим вдохновением, почти с энтузиазмом, с удивительным литературным красноречием, все свои главнейшие убеждения, основные принципы своего мировоззрения. Со страстью юноши он вычерчивает любимый им образ Базарова, выражает несколько смелых суждений о нормальных отношениях между мужчиною и женщиною и с протестантским негодованием набрасывается на поэзию и искусство в таких фразах, которые, несмотря на дико-фальшивое содержание, по своей литературной чеканке сами должны быть отнесены к блестящим страницам русской критической литературы. Антоновичу он указывает на его грубые ошибки, замечая при этом, что роль первого критика совершенно не соответствует его силам. На многих страницах своей статьи он обличает его в полном непонимании художественной фигуры Базарова. Приведя один из нелепых комментариев его, в котором Антонович упрекает Базарова в жестокости характера. Писарев вдруг, изменив общему тону своей статьи, бросает ему в лицо несколько комических, издевательских фраз: «Ах, ты коробочка доброжелательная! Ах, ты обличительница копеечная! Ах, ты лукошко глубокомыслия!» После всего случившегося, после фельетонов Щедрина, нанесших оскорбление Чернышевскому и молодому поколению, Писарев уже не считает необходимым сколько-нибудь щадить «Современник». Критика этого журнала опростоволосилась в одном из важных литературных вопросов, и её бестактный поступок по отношению к роману Тургенева надо как можно скорее загладить пред русской читающей публикой. «Критика наша, с полемическим гневом восклицает Писарев, по обыкновению смотрит в книгу и видит фигу, и на основании этой фиги изобличает Базарова в непочтительности, в жестокости и во всяком озорстве. Долго придется Антоновичу раскаиваться в его статье об Асмодее нашею времени. Много вреда наделала эта статья. Сильно перепутала она понятия нашего общества о молодом поколении. Так напакостить мог именно один только Современник»[38]. Таков был первый залп, сделанный по «Современнику» Писаревым. В полемическую борьбу с Антоновичем вмешался человек с крупным литературным талантом и совершенно определенным мировоззрением, которое он имел полное право соединять с традициями Чернышевского, человек, которому Чернышевский протянул-бы руку, если бы в это время его публицистическая деятельность уже не была закончена в силу чисто внешних обстоятельств. Зайцев не был опасным соперником для Антоновича: лишенные литературного таланта, с самым ограниченным кругозором, оба они могли препираться до остервенения, чуть не до кулачных потасовок, изобличая друг друга в недобросовестности, но ни один из них, ни одною своею статьею, не вносил в эту борьбу ничего, что имело-бы истинно литературный характер и значение. Их полемическая схватка груба, безыдейна по содержанию, скандальна по своей распущенности. Но Писарев, несмотря на дикость своих эстетических принципов, несмотря на свою анти-литературную агитацию, был настоящим литератором по темпераменту и по уменью обсуживать художественные явления и оценивать литературное значение своих противников. Его сильное, почти азартное, в немногих строках, нападение на критику «Современника» должно было произвести ошеломляющее впечатление. В этих резких фразах, почти вносящих диссонанс в общий тон его статьи, но обставленных превосходно подобранными и блестяще-разработанными доказательствами, нельзя было не почувствовать цельного и чистого фанатического убеждения. Нельзя было не видеть, что Писарев не сдастся. Верный и убежденный партизан Чернышевского, он был при этом настоящим, типическим выразителем наступившего исторического момента. Выйдя на защиту Базарова, он опирался на живые силы современности. Стоя впереди реалистического движения, он всеми фибрами своей души был связан с прогрессивной толпой того времени.
И «Современник» немедленно откликнулся на дерзкий вызов молодого таланта. В октябре 1864 года Посторонний Сатирик (Антонович) выражает удивление по поводу статьи Писарева «Нерешенный вопрос». По его мнению, статье этой приличнее было-бы появиться в «Эпохе», в «Отечественных Записках», даже в «Русском Вестнике», но никак не в радикальном журнале. Ему приходит в голову, что помещением этой статьи «Русское Слово» хотело совершить какой-то фокус, чтобы вызвать в журналистике новый разговор о нигилистах и затем отречься от всякой солидарности с этой статьей. Антонович считает себя вынужденным обратиться к редакции «Русского Слова» с вопросом: согласна-ли она с этой статьей, разделяет-ли она все суждения её автора о романе Тургенева и о критике на этот роман, помещенной в «Современнике»? Антонович не начнет своей полемики раньше, чем не получит печатного ответа на свой вопрос. Сделав такое приглашение, Посторонний сатирик обращается к одному из постоянных сотрудников «Русского Слова», Минаеву, с вопросом, как он думает о статье «Нерешенный вопрос»? Как вы относитесь к деянию вашего сотоварища по журналу? допрашивает он его. Такой же вопрос он предлагает издателю журнала, Благосветлову. В заключение, разыграв с хлестаковской наивностью роль заваленного делом человека, Антонович важно заявляет о том, что ему нужно еще закончить полемику с «Эпохою», что ему необходимо присматривать за двумя органами Краевского, не упуская при этом – Боже сохрани – из виду московской печати. Полемика с «Русским Словом» подвернулась совсем не кстати, но нечего делать, – уж так и быть, он согласен: как только он получит ответ, он поднимет перчатку, брошенную ему редакцией молодого журнала[39].
«Русское Слово» ответило твердо и ясно. Журналу незачем отрекаться от солидарности со статьею «Нерешенный вопрос». Статья эта оценивает деятельность и современное значение тех людей, на стороне которых находятся все симпатии его сотрудников. Автор этой статьи защищает литературный тип от той клеветы, которую взвела на него журналистика, и показывает важное значение базаровского элемента в общественной жизни, в науке, в искусстве. В этом принципиальном отношении оба журнала разошлись еще в 1862 г., со времени статьи Писарева «Базаров», но «Русскому Слову» нечего бояться полемики и угроз «Современника». В той же книге Зайцев отмечает всю непристойность полемики Антоновича с «Эпохою»[40].
В декабре того же года Антонович обращается к «Русскому Слову» с «Предварительными объяснениями». Он получил печатный ответ и потому должен был-бы начать полемику непосредственно, но тем не менее он находит нужным вдаться в некоторые прелиминарные переговоры. Прежде всего он должен упрекнут Зайцева за то, что тот не понял смысла его полемики с «Эпохою». Неужели, в самом деле, сотрудник «Русского Слова» не видит в этой полемике ничего, кроме непристойностей и личностей? Антоновичу представляется, что в его базарной ругне, обращенной на Достоевского, можно найти какой-то идейный смысл, и он решается спросить Зайцева: «ужели вы не захотели-бы подписать ни одной из моих полемических статей, ужели и вам кажется, как Отечественным Запискам, что моя полемика не требуется для блага отечества и не проливает света на мировые вопросы?» Затем Антонович, слегка укорив Зайцева за его отношение к неграм, переходит к главному вопросу о романе Тургенева. По его глубокомысленному толкованию, Тургенев показал «Русскому Слову» фигу, а оно стало целовать эту фигу, «приняло ее за идеал, за комплимент», и «водяным настоем этой фиги» стало разбалтывать свои критические статьи. Похвалившись тем, что он всеми признан за моветонного полемизатора, Антонович заявляет, что он просто рад трем знаменитым ругательным фразам Писарева: они развязывают ему язык и дают возможность не стесняться в выражениях. Если его критика была названа лукошком глубокомыслия, то отныне он будет называть критику «Русского Слова» бутербродом глубокомыслия, и, говоря о «критикантах» этого журнала, он будет выражаться так: бутерброд с глубокомыслием Благосветлова, бутерброд с глубокомыслием Зайцева, бутерброд с глубокомыслием Писарева. Тургеневские фиги понравились бутербродам «Русского Слова»! Бутерброд с глубокомыслием Зайцева подсиживает «Современник». Спросите у бутерброда с глубокомыслием Зайцева, умеет-ли Антонович непристойно полемизировать? Друзья-бутерброды, коробочки и лукошки, давайте спорить!.. Развернув таким образом свое остроумие, Антонович не упускает однако случая указать на то, что статью его о Тургеневе принял сам Чернышевский. Если его критика оказалась лукошком глубокомыслия, значит[41]…
Это предварительное объяснение Антоновича «Русское Слово» встретило с некоторою сдержанностью. Зайцев и сотрудник, подписавшийся «Заштатный юморист», поздравили Постороннего Сатирика с остроумными бутербродами и в насмешливых выражениях указали ему на то, что он затевает полемику не по-рыцарски. Может случиться, что он останется один на этом турнире, если не изменит своей тактики. Однако, при всей «аттенции» журнала к «Современнику», сотрудники «Русского Слова» считают себя обязанными приготовиться к преломлению рыцарских копий[42].
Так разжигали друг друга своими «предварительными объяснениями» сотрудники двух радикальных журналов, прежде чем начать излагать пред публикой оттенки своих принципиальных несогласий. Не говоря пока ничего по существу, они потрясают воздух диким криком, как готовящиеся к бою полуварварские орды, издали угрожающие друг другу своими военными орудиями. Одни размахивают тяжеловесными дубинами, другие с яростью показывают зловеще сверкающие ножи. Битва будет рукопашная, исступленная, беспощадная… С первой же книги 1865 года «Современник» обрушится на «Русское Слово», и схватка разыграется по всей линии. Ничто не укротит воюющих сторон, пока в этом стихийном столкновении не выяснится окончательно, кто действительно силен и способен победоносно взять роль общественного руководителя. Журналы других направлений будут злорадно следить за этой дракой в среде радикальной партии, а «Отечественные Записки», примыкающие к прогрессивному движению, кружась подле дерущихся, будут бессильно размахивать унылыми алебардами своего умеренного либерализма.
IV
В декабре 1864 года Щедрин уехал из С.-Петербурга, о чем он сообщил в «Современнике» в открытом письме на имя Н. Некрасова. «Оставляя С.-Петербург, писал он с сухим лаконизмом, я могу на будущее время быть только сотрудником издаваемого вами журнала, не принимая более участия в трудах по редакции». Подняв целую бурю в литературе своими фельетонами о нигилистах и насмешкой над оптимизмом Чернышевского, Щедрин на время прекращает свою публицистическую работу. Он поступает на службу, назначается председателем пензенской казенной палаты и, оторвавшись от шумной деятельности передового журналиста, на некоторое время почти скрывается с литературного горизонта – до тех пор, пока Некрасов не привлекает его, в 1868 году, к ближайшему участью в преобразованных «Отечественных Записках». В «Современнике», в качестве главного деятеля, остался один Антонович. Только что окончив полемику с «Эпохою» и уже раззадорив сотрудников «Русского Слова», Антонович должен был выдержать новую битву с этим журналом, который явным образом продолжал традиции Чернышевского. В этом новом споре каждое его слово, после смутивших публику фельетонов Щедрина, могло иметь самое серьезное значение для «Современника». Антоновичу предстояла трудная задача вновь поднять репутацию издания, которая, очевидным образом, истощалась, падала, разлагалась. «Русское Слово» быстро вырастало под редакцией энергичного и предусмотрительного человека, каким был Благосветлов. Его сотрудники, с Писаревым во главе, уже успели привлечь к себе сочувствие публики, которая находила живой отголосок своих настроений, своих надежд, своих запросов в статьях и заметках этого молодого журнала. Свежие литературные работники шли в редакцию Благосветлова, где все, как некогда в «Современнике», кипело своеобразным задором и страстями протестантского реализма. Здесь они могли работать на большей свободе, не стесняемые ничьим мелким самолюбием, которое в «Современнике» этой поры, с заносчивым Антоновичем во главе, должно было отпугивать всякую свежую умственную силу. Выдыхаясь в области литературной и философской критики, «Современник» лишался того рычага, которым всегда управлялось в России общественное мнение. Критика «Русского Слова», отвечавшая воззрениям интеллигентной толпы, воспитанной на статьях Чернышевского, критика, яркая по форме, смелая и решительная в своих требованиях, критика, блещущая настоящим природным талантом, становилась центром нового умственного движения, в котором Антонович, лишенный серьезного литературного дарования, уже не мог играть никакой роли. Победа должна была остаться на стороне «Русского Слова».
В январе Антонович, связанный собственным обещанием, обращается к двум деятелям враждебного органа. С поддельным и вымученным остроумием, отдающим циническим бахвальством, он упрекает сотрудников «Русского Слова» в том, что они отлынивают от прямых объяснений с ним. Нет, друзья мои, восклицает он, не на того напали! и потом, переходя из оборонительного тона в наступательный, прибавляет: «Я не позволю отвлечь себя от главного предмета, да и вас не пущу от него ни на шаг! Я вас заставлю объясниться со мной». Не доверяя добросовестности своих противников, он будет формулировать свои сомнения в виде тезисов и вопросов. Каждый тезис или вопрос будет стоять у него под номером, так что, если какой-нибудь его противник пожелает уклониться в сторону, он укажет на него пальцем, он прямо носом ткнет его в номер. Пусть дрожат все эти бутерброды с глубокомыслием Благосветлова, Зайцева и Писарева. Он идет на них войною и непременно одержит над ними победу. Пусть они посмотрят на трофеи его прежних сражений: Косица лежит во прахе, «Эпоха» разбита в дребезги… Предчувствуют-ли его теперешние враги, что с ними будет? «Что? обиделись? Вам неприятно, что вас назвали бутербродами, да? Вот то-то же и есть, крошечка г. Зайцев, душечка г. Благосветлов»… Затем, разбирая по пунктам свои грубые и мелочные перекоры с «Русским Словом», деловито пересматривая все взаимные характеристики с остроумными уподоблениями лукошку, фиге, бутерброду, он побивает Зайцева его плантаторскими тенденциями, а Благосветлова, натянувшего на себя базаровскую маску, тем, что он некогда вел «уморительную» полемику против идей Чернышевского. Но предметом принципиального спора он считает статью Писарева «Нерешенный вопрос». Он уже два раза говорил «Русскому Слову»: иду на вас, он два раза предлагал ему отказаться от солидарности с этой статьей. Теперь он предлагает это редакции в последний раз и, если она не послушает его, он заставит ее отказаться от «Нерешенного вопроса» и расхлебать кашу, которую заварила эта статья.
В заключение Антонович пользуется неловким объяснением на щекотливую денежную тему Благосветлова с литератором М. Вороновым, издевательски предлагая издателю «Русского Слова» расплатиться за провинившегося литератора из собственного кошелька.
В той же книге Д. Минаев, неожиданно передавшийся на сторону «Современника», отвечает Антоновичу на его вопрос о том, согласен ли он с идеями, выраженными в «Нерешенном вопросе». Бойкий пасквилянт оказался несолидарным с Писаревым. Сотрудник пошлого «Будильника» никогда «не доходил до обожания базаровского типа» и в романе Тургенева видит только пролог, прелюдию к эпическим творениям Писемского, Клюшникова и Стебницкого[43].
Благосветлов, грубый не менее, чем Антонович, но более, чем он, ловкий и твердый, ответил немедленно. Он издевается над Антоновичем. Из обширного лексикона бранных слов он выбирает самые кричащие. Посторонний Сатирик угрожает решительно истребить сотрудников «Русского Слова». Он махает руками и делает всевозможные ужасающие жесты! С ним говорят спокойно, а он на полторы мысли ставит до пятисот вопросительных знаков. Противники едва удостаивают его ответа, но он не унимается. Размазня, предлагаемая в статьях Антоновича, заварена самим «Современником», и пусть сам «Современник» ответит, считает ли он себя солидарным с известными фельетонами Щедрина о нигилистах и Чернышевском. пусть он ответит, какими рыцарскими побуждениями руководствовался Щедрин, обратив против «Русского Слова» целую батарею разухабистого остроумия. Антонович бессовестно лжет, обвиняя его в том, что он писал уморительную критику против Чернышевского. Он никогда не укорял Чернышевского ни в чем постыдном и в этом всякий может убедиться, пересмотрев его статьи, напечатанные в «Отечественных Записках»… По вопросу о Воронове, он с презрением откидывает от себя издевательство Антоновича, предлагая ему направить в другую сторону его «копеечную филантропию»[44]… Посторонний Сатирик не остался в долгу у Благосветлова. Благосветлов поднял свой нос и показал себя о натюрель, говорит он. Голова его, «страждущая абсентизмом толку», совершенно притуплена заносчивостью и самомнением. Антонович знал, что его противник пойдет на самые крайние меры, чтобы спрятать свой замаранный хвостик, но он не ожидал от него бессовестного запирательства. Перепечатывая, по своему обыкновению, всю заметку Благосветлова, Посторонний Сатирик постоянно перебивает её текст назойливыми и развязными замечаниями в скобках. Намекая на то, что Благосветлов получил журнал от графа Кушелева-Безбородко, Антонович подносит противнику следующее неприличное обвинение: «вы, г. Благосветлов, пишет он, некогда в графской передней почивали на связке парадных гербовых ливрей», и тут же, через несколько строк, прибавляет: по истине вы бутерброд и больше ничего! Бутерброд с размазней, да еще гнилой!.. Благосветлов спрашивает о солидарности «Современника» с Щедриным, и вот Антонович отвечает с хитроумием, достойным настоящего журнального заправилы, что «Современник» вполне солидарен с бранными фельетонами сатирика, «поколику они относятся к г. Блого Светлову, а к другим сотрудникам только относительно их мнений, несогласных с Современником». Печатая статьи Щедрина, «Современник» проникнут был негодованием на таких литературных шалопаев, как Благосветлов, и «хотел очищать литературу от гнилых и заразительных бутербродов». Антонович не смешивает своей полемики против Писарева и Зайцева с полемикой против Благосветлова. «Много чести для вас, пишет он, если вы их называете своими сотрудниками. Гораздо точнее назвать вас ихнем прихвостнем или, лучше, человеком, загребающим жар ихними руками»[45].