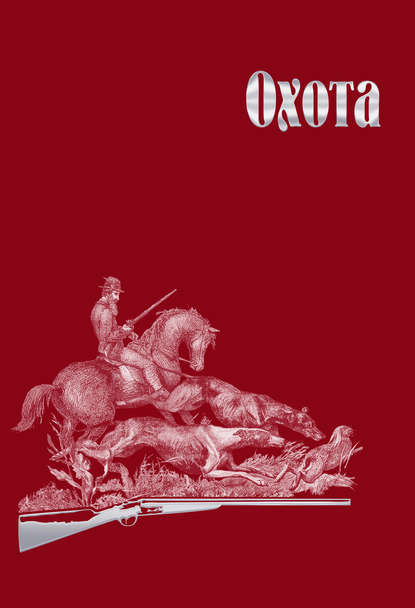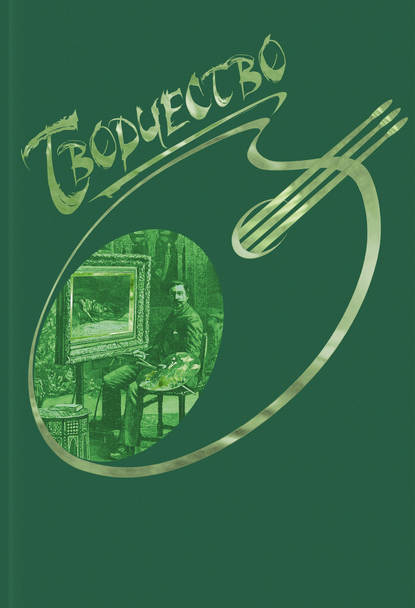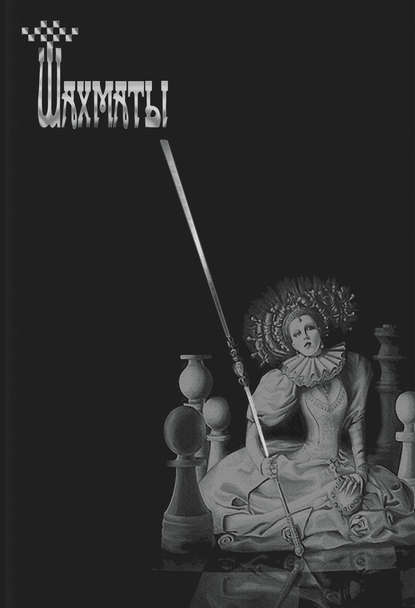Полная версия
Любовь
– И не в отца, – возразил отец. – Тот был тоже образован, да глуп.
Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора.
После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к «засекинскому саду», но неотразимая сила влекла меня туда – и недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала.
Я чуть-чуть не пропустил ее; но вдруг спохватился и кашлянул.
Она обернулась, но не остановилась, отвела рукою широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку.
Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Que suis-je pour elle?»[4] – подумал я (бог знает почему) по-французски.
Знакомые шаги раздались за мною: я оглянулся – ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец.
– Это княжна? – спросил он меня.
– Княжна.
– Разве ты ее знаешь?
– Я ее видел сегодня утром у княгини.
Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто; но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях.

Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня, снова приподняла книгу и удалилась.
VI
Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова – но напрасно мелькали передо мною разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. Десять раз сряду прочел я слова: «Юлий Цезарь отличался воинской отвагой» – не понял ничего и бросил книгу. Перед обедом я опять напомадился и опять надел сюртучок и галстук.
– Это зачем? – спросила матушка. – Ты еще не студент, и бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку? Не бросать же ее!
– Гости будут, – прошептал я почти с отчаянием.
– Вот вздор! Какие это гости!
Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстука не снял. Княгиня с дочерью явились за полчаса до обеда; старуха сверх зеленого, уже знакомого мне платья накинула желтую шаль и надела старомодный чепец с лентами огненного цвета. Она тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, «канючила», но нисколько не чинилась: также шумно нюхала табак, также свободно поворачивалась и ерзала на стуле. Ей как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице ее появилась холодная неподвижность и важность – и я не узнавал ее, не узнавал ее взглядов, ее улыбки, хотя и в этом новом виде она мне казалась прекрасной. На ней было легкое барежевое платье с бледно-синими разводами; волосы ее падали длинными локонами вдоль щек – на английский манер; эта прическа шла к холодному выражению ее лица. Отец мой сидел возле нее во время обеда и со свойственной ему изящной и спокойной вежливостью занимал свою соседку. Он изредка взглядывал на нее – и она изредка на него взглядывала, да так странно, почти враждебно. Разговор у них шел по-французски; меня, помнится, удивила чистота Зинаидина произношения. Княгиня, во время стола, по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанья. Матушка видимо ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением; отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке.
– Это какая-то гордячка, – говорила она на следующий день. – И подумаешь – чего гордиться – avec sa mine de gri-sette![5]
– Ты, видно, не видала гризеток, – заметил ей отец.
– И слава богу!
– Разумеется, слава богу… только как же ты можешь судить о них?
На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться.
– Буду надеяться на ваше покровительство, Марья Николаевна и Петр Васильич, – сказала она нараспев матушке и отцу. – Что делать! Были времена, да прошли. Вот и я – сиятельная, – прибавила она с неприятным смехом, – да что за честь, коли нечего есть!
Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же в своей куцей куртке и глядел на пол, словно к смерти приговоренный. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне:
– Приходите к нам в восемь часов, слышите, непременно…
Я только развел руками – но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф.
VII
Ровно в восемь часов я в сюртуке и с приподнятым на голове коком входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. Старик слуга угрюмо посмотрел на меня и неохотно поднялся с лавки. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты, на стуле, стояла княжна и держала перед собой мужскую шляпу; вокруг стула толпилось пятеро мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула:
– Постойте, постойте! новый гость, надо и ему дать билет, – и, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. – Пойдемте же, – сказала она, – что вы стоите? Messieurs[6], позвольте вас познакомить: это мсье Вольдемар, сын нашего соседа. А это, – прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей, – граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нирмацкий и Беловзоров, гусар, которого вы уже видели. Прошу любить да жаловать.
Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому; в докторе Лушине я узнал того самого черномазого господина, который так безжалостно меня пристыдил в саду; остальные были мне незнакомы.
– Граф! – продолжала Зинаида, – напишите мсье Вольдемару билет.
– Это несправедливо, – возразил с легким польским акцентом граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет, с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. – Они не играли с нами в фанты.
– Несправедливо, – повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном, человек лет сорока, рябой до безобразия, курчавый как арап, сутуловатый, кривоногий и одетый в военный сюртук без эполет, нараспашку.
– Пишите билет, говорят вам, – повторила княжна. – Это что за бунт? Мсье Вольдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать, пишите, я так хочу.
Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем.
– По крайней мере позвольте объяснить господину Вольдемару, в чем дело, – начал насмешливым голосом Лушин, – а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты; княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал?
Я только взглянул на него и продолжал стоять как отуманенный, а княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Все к ней потянулись – и я за другими.
– Майданов, – сказала княжна высокому молодому человеку с худощавым лицом, маленькими слепыми глазками и чрезвычайно длинными черными волосами, – вы, как поэт, должны быть великодушны и уступить ваш билет мсье Вольдемару, так, чтобы у него было два шанса вместо одного.
Но Майданов отрицательно покачал головой и взмахнул волосами. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет… Господи, что сталось со мною, когда я увидал на нем слово: поцелуй!
– Поцелуй! – вскрикнул я невольно.
– Браво! Он выиграл, – подхватила княжна. – Как я рада! – Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось. – А вы рады? – спросила она меня.
– Я?.. – пролепетал я.
– Продайте мне свой билет, – брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. – Я вам сто рублей дам.
Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: молодец!
– Но, – продолжал он, – я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсье Вольдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено.
Зинаида стала передо мной, наклонила немного голову набок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах; я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба – и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем.
– Добре! – закричал Лушин и помог мне встать.

Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких не придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, представлять «статую» – и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нирмацкого, велела ему лечь ничком да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Мне, уединенно и трезво воспитанному мальчику, выросшему в барском степенном доме, весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, почти буйная веселость, эти небывалые сношения с незнакомыми людьми так и бросились в голову. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. В одном штрафе мне довелось сидеть с ней рядом, накрывшись одним и тем же шелковым платком: я должен был сказать ей свой секрет. Помню я, как наши обе головы вдруг очутились в душной, полупрозрачной, пахучей мгле, как в этой мгле близко и мягко светились ее глаза и горячо дышали раскрытые губы, и зубы виднелись, и концы ее волос меня щекотали и жгли. Я молчал. Она улыбалась таинственно и лукаво и наконец шепнула мне: «Ну, что же?», а я только краснел и смеялся, и отворачивался, и едва переводил дух.
Фанты наскучили нам, – мы стали играть в веревочку. Боже мой! Какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от ней сильный и резкий удар по пальцам, и как потом я нарочно старался показывать вид, что зазевываюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемых рук!
Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера! Мы и на фортепьяно играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нирмацкого одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин «имел честь его поздравить». Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца» (дело происходило в самом разгаре романтизма), которую он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета; у приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его, в виде выкупа, проплясать казачка; старика Вонифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу… Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый… Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны; но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол.
Мы наконец выбились из сил. Княгиня уж на что была, как сама выражалась, ходка – никакие крики ее не смущали, – однако и она почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. В двенадцатом часу ночи подали ужин, состоявший из куска старого, сухого сыру и каких-то холодных пирожков с рубленой ветчиной, которые мне показались вкуснее всяких паштетов; вина была всего одна бутылка, и та какая-то странная: темная, с раздутым горлышком, и вино в ней отдавало розовой краской: впрочем, его никто не пил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля; на прощанье Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась.
Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо; казалось, готовилась гроза; черные тучи росли и ползли по небу, видимо меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо.
Через заднее крыльцо пробрался я в свою комнату. Дядька мой спал на полу, и мне пришлось перешагнуть через него; он проснулся, увидал меня и доложил, что матушка опять на меня рассердилась и опять хотела послать за мною, но что отец ее удержал. (Я никогда не ложился спать, не простившись с матушкой и не испросивши ее благословения.) Нечего было делать!
Я сказал дядьке, что разденусь и лягу сам, – и погасил свечку… но не разделся и не лег.
Я присел на стул и долго сидел как очарованный. То, что я ощущал, было так ново и так сладко… Я сидел, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышал и только по временам то молча смеялся, вспоминая, то внутренне холодел при мысли, что я влюблен, что вот она, вот эта любовь. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во мраке – плыло и не проплывало; губы ее все так же загадочно улыбались, глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нежно… как в то мгновение, когда я расстался с ней. Наконец я встал, на цыпочках подошел к своей постели и осторожно, не раздеваясь, положил голову на подушку, как бы страшась резким движением потревожить то, чем я был переполнен…
Я лег, но даже глаз не закрыл. Скоро я заметил, что ко мне в комнату беспрестанно западали какие-то слабые отсветы. Я приподнялся и глянул в окно. Переплет его четко отделялся от таинственно и смутно белевших стекол. «Гроза», – подумал я, – и точно была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно; только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии: они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы. Я встал, подошел к окну и простоял там до утра… Молнии не прекращались ни на мгновение; была, что называется в народе, воробьиная ночь. Я глядел на немое песчаное поле, на темную массу Нескучного сада, на желтоватые фасады далеких зданий, тоже как будто вздрагивавших при каждой слабой вспышке… Я глядел – и не мог оторваться: эти немые молнии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали так же во мне. Утро стало заниматься; алыми пятнами выступила заря. С приближением солнца все бледнели и сокращались молнии: они вздрагивали все реже и реже и исчезли наконец, затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникавшего дня…
И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал большую усталость и тишину… но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя, над моею душой. Только он сам, этот образ, казался успокоенным: как полетевший лебедь – от болотных трав, отделился он от окружавших его других неблаговидных фигур, и я, засыпая, в последний раз припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием…
О, кроткие чувства, мягкие звуки, доброта и утихание тронутой души, тающая радость первых умилений любви, – где вы, где вы?
VIII
На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побранила меня – меньше, однако, чем я ожидал, – и заставила меня рассказать, как я провел накануне вечер. Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный.
– Все-таки они люди не comme il faut[7], – заметила матушка, – и тебе нечего к ним таскаться, вместо того чтоб готовиться к экзамену да заниматься.
Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почел нужным возражать ей; но после чаю отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мною в сад, заставил меня рассказать все, что я видел у Засекиных.

Странное влияние имел на меня отец – и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу – он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною… только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины – и, боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась – я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником… потом он так же внезапно покидал меня – и рука его опять отклоняла меня – ласково и мягко, но отклоняла.
На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик (он любил всякое сильное телесное движение); раз – всего только раз! – он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал… Но и веселость его и нежность исчезали без следа – и то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее – точно я все это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо… сердце мое задрожит, и все существо мое устремится к нему… он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке – и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмусь и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к тому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни; он любил другое и насладился этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать – в этом вся штука жизни», – сказал он мне однажды. В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе (он в тот день был, как я это называл, «добрый»; тогда с ним можно было говорить о чем угодно).
– Свобода, – повторил он. – А знаешь ли ты, что может человеку дать свободу?
– Что?
– Воля, собственная воля, и власть она даст, которая лучше свободы. Умей хотеть – и будешь свободным, и командовать будешь.
Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить – и жил… Быть может, он предчувствовал, что ему не придется долго пользоваться «штукой» жизни: он умер сорока двух лет.
Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал.
Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок – и умел, гораздо раньше г. Рери, укрощать самых диких лошадей.
– Я с тобой поеду, папаша? – спросил я его.
– Нет, – ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение. – Ступай один, коли хочешь; а кучеру скажи, что я не поеду.
Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами – он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора: он вошел к Засекиным.
Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру.

После обеда я сам пошел к Засекиным. В гостиной я застал одну старуху княгиню. Увидев меня, она почесала себе в голове под чепцом концом спицы и вдруг спросила меня, могу ли я переписать ей одну просьбу.
– С удовольствием, – отвечал я и присел на кончик стула.
– Только смотрите покрупнее буквы ставьте, – промолвила княгиня, подавая мне измаранный лист, – да нельзя ли сегодня, батюшка?
– Сегодня же перепишу-с.
Дверь из соседней комнаты чуть-чуть отворилась – и в отверстии показалось лицо Зинаиды – бледное, задумчивое, с небрежно откинутыми назад волосами: она посмотрела на меня большими холодными глазами и тихо закрыла дверь.
– Зина, а Зина! – проговорила старуха. Зинаида не откликнулась. Я унес просьбу старухи и целый вечер просидел над ней.
IX
Моя «страсть» началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу: я уже перестал быть просто молодым мальчиком; я был влюбленный. Я сказал, что с того дня началась моя страсть; я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствие Зинаиды: ничего мне на ум не шло, все из рук валилось, я по целым дням напряженно думал о ней… Я изнывал… но в ее присутствии мне становилось не легче. Я ревновал, я сознавал свое ничтожество, я глупо дулся и глупо раболепствовал – и все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней – и я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог ее комнаты. Зинаида тотчас же догадалась, что я в нее влюбился, да я и не думал скрываться; она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Сладко быть единственным источником, самовластной и безответной причиной величайших радостей и глубочайшего горя для другого – а я в руках Зинаиды был как мягкий воск. Впрочем, не я один влюбился в нее: все мужчины, посещавшие ее дом, были от нее без ума – и она их всех держала на привязи – у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти (это она называла: стукать людей друг о друга) – а они и не думали сопротивляться и охотно покорялись ей. Во всем ее существе, живучем и красивом, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости; над всем, что она делала, говорила, над каждым ее движением носилась тонкая, легкая прелесть, во всем сказывалась своеобразная, играющая сила. И лицо ее беспрестанно менялось, играло тоже: оно выражало, почти в одно и то же время, – насмешливость, задумчивость и страстность. Разнообразнейшие чувства, легкие, быстрые, как тени облаков в солнечный ветреный день, перебегали то и дело по ее глазам и губам.
Каждый из ее поклонников был ей нужен. Беловзоров, которого она иногда называла «мой зверь», а иногда просто «мой», – охотно кинулся бы за нее в огонь; не надеясь на свои умственные способности и прочие достоинства, он все предлагал ей жениться на ней, намекая на то, что другие только болтают. Майданов отвечал поэтическим струнам ее души: человек довольно холодный, как почти все сочинители, он напряженно уверял ее, а может быть, и себя, что он ее обожает, воспевал ее в нескончаемых стихах и читал их ей с каким-то и неестественным и искренним восторгом. Она и сочувствовала ему и чуть-чуть трунила над ним; она плохо ему верила и, наслушавшись его излияний, заставляла его читать Пушкина, чтобы, как она говорила, очистить воздух. Лушин, насмешливый, цинический на словах доктор, знал ее лучше всех – и любил ее больше всех, хотя бранил ее за глаза и в глаза. Она его уважала, но не спускала ему – и подчас с особенным, злорадным удовольствием давала ему чувствовать, что и он у ней в руках. «Я кокетка, я без сердца, я актерская натура, – сказала она ему однажды в моем присутствии, – а, хорошо! так подайте ж вашу руку, я воткну в нее булавку, вам будет стыдно этого молодого человека, вам будет больно, а все-таки вы, господин правдивый человек, извольте смеяться». Лушин покраснел, отворотился, закусил губы, но кончил тем, что подставил руку. Она его уколола, и он точно начал смеяться… и она смеялась, запуская довольно глубоко булавку и заглядывая ему в глаза, которыми он напрасно бегал по сторонам…
Хуже всего я понимал отношения, существовавшие между Зинаидой и графом Малевским. Он был хорош собою, ловок и умен, но что-то сомнительное, что-то фальшивое чудилось в нем даже мне, шестнадцатилетнему мальчику, и я дивился тому, что Зинаида этого не замечает. А может быть, она и замечала эту фальшь и не гнушалась ею. Неправильное воспитание, странные знакомства и привычки, постоянное присутствие матери, бедность и беспорядок в доме, все, начиная с самой свободы, которою пользовалась молодая девушка, с сознания ее превосходства над окружавшими ее людьми, развило в ней какую-то полупрезрительную небрежность и невзыскательность. Бывало, что ни случится – придет ли Вонифатий доложить, что сахару нет, выйдет ли наружу какая-нибудь дрянная сплетня, поссорятся ли гости, – она только кудрями встряхнет, скажет: пустяки! – и горя ей мало.